Тема
Любовь Аркус: Есть вопросы, брошенные нами где-то по пути как бы за ненадобностью. Казалось, что ответы на них давным-давно разумеются сами собой, и оттого одно только упоминание о них есть дурной тон — нечто не просто несвоевременное, но и безнадежно устаревшее. А между тем вопросы эти не только не были закрыты, но и версий ответов было не так уж много.
Судьба сталинской темы в постсоветском кино сегодня кажется исследователям предметом малоинтересным. Во всяком случае, неактуальным. Свидетелям и очевидцам трагического отсутствия взаимоотношений нынешнего кинематографа с современной ему реальностью естественно описывать и анализировать разрыв с настоящим, мучительную безъязыкость, оставив в стороне и прошлое страны, и прошлое кинематографа, и те так и не понятые нами взаимоотношения, что складывались у них хотя бы за прошедшие десять лет. Завороженные и замороченные словом «кризис», наиболее употребимым в статьях и обсуждениях последнего времени, мы заняты описанием примет и следствий, с трудом отделяя объективный «кризис производства» от расплывчатого «кризиса идей» и еще более туманного «кризиса картины мира».
Я помню, как на одном из заседаний Коллегии Госкино летом прошлого года главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей сетовал на отсутствие экранизаций Солженицына, Шаламова и Домбровского, объясняя это отсутствие неправильной руководящей политикой комитета, не добившегося госзаказа для таких экранизаций и не поручившего их лучшим режиссерам страны. Однако на мой взгляд, «бездеятельность» министерства именно в этой области пошла только на благо как кинематографу, так и этим произведениям — никакими госзаказами тут делу не поможешь. Но вопрос (теоретический, не практический!), тем не менее, остается, и он очень прост: почему за все десять лет, прошедшие с момента отмены любых запретов, в отечественном кино не было адекватного литературе воплощения сталинской темы, и почти все попытки в этой области были обречены на ту или иную степень неудачи? Почему приоритетное развертывание темы происходило именно в жанровом кинематографе, в то время как «авторы» обращались к ней, не иначе как вооружившись пресловутой иронией и не забывая обнажить условность приема? Почему стремление осмыслить тему, не изжитое до конца цензурой в шестидесятые-семидесятые, с такой легкостью было излечено свободой слова — которая если и не «закрыла» тему, то уж точно (что еще опаснее для России) ее опошлила? Почему, пользуясь футуристической терминологией Виктора Шкловского, тема пребывала в обмороке, уже начиная с первых своих шагов на киноэкране — с выхода фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние»? Почему столь быстро оказался исчерпанным круг идей, опрокинулась в бездонную пошлость едва лишь опробованная экраном фактура времени, а из всего многообразия сюжетов и мотивов было выбрано лишь несколько банальных и несущественных, повторяющих друг друга…
Андрей Шемякин: Потеряв последнюю надежду на возможность открытого высказывания, искусство середины шестидесятых — в полном соответствии с культурной традицией — стало полем порождения смыслов, не теряющих свою многозначность благодаря метафоре, символу, аллегории. Эта многозначность была лишь намеком на глубину постижения запретного. Многолетние истощение поля, эрозия языка и невозможность прямой речи поставили перестроечное кино в особый культурный контекст. Наши фильмы, в отличие от западных, попали в интеллектуальный вакуум, а это, в свою очередь, нанесло кинопроцессу куда больший вред, нежели цензурные санкции. Кино, привыкшее прорываться сквозь запреты, нарушать табу, не заметило, насколько неактуальными и запоздавшими были те истины, которые оно стремилось провозгласить открыто.
Отмена цензуры ознаменовала не только обретенную свободу высказывания, но и возможность увидеть все то, что долгое время оставалось для аудитории недоступным. Запоздалое близкое знакомство с западным послевоенным кинематографом показало, что проблема тоталитаризма уже осмыслена настолько серьезно и глубоко, что браться за нее можно лишь с особой ответственностью и осторожностью.

Лев Лурье: Все точки зрения на сталинизм были отыграны еще в шестидесятые. Идеология перестройки фиксировала давно известные, представленные в самиздатной и тамиздатной литературе концепции. Первая: Сталин извратил идеалы ленинизма. Вторая: тридцать седьмой год — логическое продолжение семнадцатого. Третья: Сталин — продолжатель дела Петра I, Эти три концепции соответственно отстаивались либералами роймедведевского толка, западниками и государственниками-славянофилами.
В перестройку было обнародовано, опубликовано все то, что уже наличествовало — под сукном, в архиве или в диссидентской среде. Постепенно в западной и в русской историографии сложились некие устойчивые мифы, некие картины сталинизма. Они нашли отражение, прежде всего, у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» и у Конквиста в «Большом терроре». Будучи совершенно неверными, они, тем не менее, уже бытовали как некие историографические обобщения. Была надежда, что когда откроются архивы, туда пойдут молодые исследователи, но, увы, архивы оказались востребованы только сейчас, когда они на самом деле закрываются. Даже то немногое, что успели опубликовать, указывает на абсолютное несоответствие всех готовых доктрин реальности — однако историческая наука не разрушает эти мифы и не дает новых поводов для интеллектуальных усилий. Молчит и литература, довольствуясь публикациями и комментированием Платонова, Шаламова, Домбровского и Солженицына. Ну вот: гении высказались. После них проблема Сталина уже ни у кого не получает серьезного осмысления.
Олег Ковалов: Солженицын стремится объяснить феномен тоталитаризма через историю и сферу политики, в то время как природа этого явления скорее социально-психологическая. Самые глубокие художественные исследования тирании выводят ее суть из самого… языка времени, это — почти филологические, лингвистические трактаты. Прежде всего «Котлован» Андрея Платонова, где словно бы не больное время рождает столь же больной язык, а — наоборот: уродливое косноязычие речи, выстраивающее монструозные словосочетания, — рождает и социальных чудовищ, впивающихся в горло. Это ’-“1984” Оруэлла, с его «Трактатом о новоязе», гениальной писательской догадкой о государственной программе постепенного изъятия из языкового обихода «лишних» смыслов и обертонов — с тем, чтобы лишенные словесных оболочек явления исчезали и из самой жизни. Это — почти весь Владимир Сорокин, блистательно доказавший, что виртуозное исследование одних лишь языковых сфер и слоев советского общества может сказать все или почти все о его социальных структурах, политике и нравственнности. В отечественном кинематографе таких примеров немного. Вероятно, самый ранний пример — фильм Абрама Роома «Строгий юноша», запрещенный в 1936 году за «формализм»: здесь стиль сталинской эпохи стал предметом авторской рефлексии, доходящей до возможно невольной, но разрушительной ироничности. Это — лучшие работы братьев Алейниковых, воплощающих на экране принципы соцарта. Это — Евгений Юфит и Андрей Мертвый, которые остраненно, с ерничеством и гримасами «черного» юмора воспроизвели на экране ведущие мифологемы социалистического реализма — в частности, жертвенный героизм, возведенный в культ и предписанный каждому гражданину. Это, безусловно, — фильм Ивана Дыховичного «Прорва»… словом, совершенно ясно: чтобы понять феномен «обыкновенного» — а не демонического! — сталинизма, — кинематографу нужно исследовать язык и мифологемы эпохи. Они больше объяснят время, чем причуды и дурной характер «вождя».
Андрей Шемякин: Фильм «Прорва» — опыт воспроизведения внеморального пространства, управляемого насилием, и его муляжной красоты. Это единственный образ эпохи, во многом эпигонский, но целостный и неожиданно (для многих — кощунственно) притягательный. Будто кремовый торт из «Покаяния» разросся до размеров фильма. Спорить с Дыховичным по принципу «мы были не такие» — бессмысленно, — он все равно победит, потому что на правдоподобие не претендует из принципа. В случае с «Прорвой» мы имеем дело с самоцельным коллекционированием фрагментов Большого сталинского стиля. Опыт этой картины, при всей своей неординарности, доказал, что интеллектуальная бедность не способствует глубинному постижению сталинизма.
К началу девяностых уже было понятно: сказать, что массовые репрессии были трагедией, которую не оправдывают никакие благие цели, — недостаточно. Теперь уже необходима как минимум небанальная историческая концепция. Заменить ее мог бы пусть в интеллектуальном смысле простодушный, но мощный художественный образ эпохи. Дыховичный решил, что для создания картины хватит и того «сложного» чувства, которое он испытывал по отношению к эпохе, — за оное он, по всей видимости, принимал наличие и любви, и ненависти, и памяти о неизжитых страхах, и памяти о неповторившемся больше счастье… все то, что испытывает человек по отношению к собственному детству. Однако, либерал по воспитанию и мировоззрению, Иван Дыховичный не смог добиться органической и подлинной вовлеченности в миф, а ироническая дистанция ему катастрофически не удалась. Однако частичное поражение Дыховичного свидетельствовало о том, что, несмотря на прошедшие десятилетия, упомянутая эпоха, еще слишком живая в сознании современников, излишне поспешно была названа «историческим прошлым».
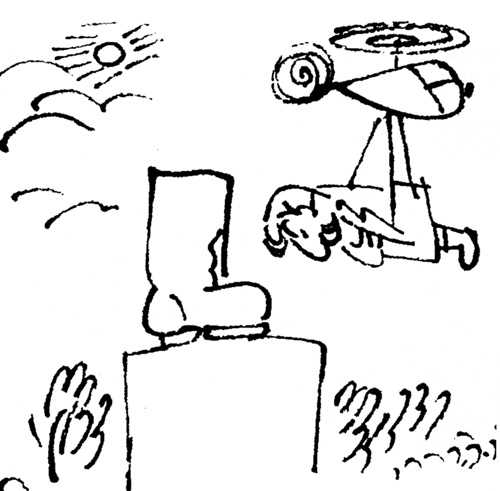
Лев Лурье: Прошло слишком много времени, чтобы эта тема перестала быть живой и явственной, но слишком мало — для того, чтобы о ней можно было говорить не плача и не смеясь, с равнодушием и объективностью естествоиспытателя, а в оценке времени только это может дать какие-то реальные плоды. Перестройку выиграло поколение пепси, которое шло после семидесятников, и для них проблема Сталина была уже не важна. В этом колоссальное различие между проблемой войны и Гитлера для французского или немецкого кинематографа — и проблемой Сталина для кинематографа советского. В западном кинематографе фашизм исследовали люди, которые его пережили, для которых это стало личной проблемой или проблемой отцов. В России временная дистанция оказалась слишком велика для эстетического, и слишком мала для исторического осмысления. Сталинская эпоха не очень интересна современному человеку — читателю, зрителю. Для него в ней нет ничего созвучного и поучительного.
Андрей Шемякин: Спустя несколько лет после первого показа «Покаяния» Юрий Карабчиевский упрекнул Тенгиза Абуладзе в том, что его чрезмерное увлечение символами и эстетизацией увело фильм в сторону от критики сталинизма. Взгляд Карабчиевского разделяли многие либералы: насущной потребностью почиталось приближение к конкретной исторической правде; эстетике отводилась заведомо второстепенная роль. Чем меньше ее — тем лучше: эклерами не кормят тех, кому долго не давали хлеба. А между тем ирония в фильме Абуладзе несомненно присутствовала, находясь в довольно сложных отношениях с вышеозначенным символизмом — о чем, в сущности, критики не писали, ограничиваясь антисталинской риторикой. Абуладзе возвращается к образному языку сталинского кино, в шестидесятые годы прочно дискредитированного и забытого.
Сергей Добротворский: Пример Абуладзе предостерег от сталинской темы очень многих авторов: он сделал стопроцентно авторское кино, никак не отступив от своей собственной эстетики, а в результате цитаты из его фильма о дороге, которая ведет к храму, и о покаянии стали инструктивными документами социальной политики. Такой поворот событий отвратит кого угодно. То, что для Абуладзе альтернативой абсолютной власти является художник, отражает собственную судьбу самого Абуладзе, и его нельзя за это обвинять, хотя зрителю конца тысячелетия такая коллизия не может не казаться старомодной и чересчур романтичной. Но надо признать право художника на самовыражение, а не отстаивать права людей, которые, форсируя собственно художественную ткань материала, делают из него внеэстетический объект. Перестроечное и постсоветское кино, находясь в контексте жанра, который всегда берет начало в массовой мистике и мифологии, не выстраивало исторически достоверный образ, а материализовывало мифологему, и ждать от этих фильмов исторической правды и даже какой-либо потребности в ней просто невозможно; эти жанровые составляющие не только несоединимы с исторической правдой — они ей противопоказаны. Соловьев в «Черной розе» представляет какающего Сталина, абсолютно десакрализованную фигуру, раньше, чем Сергей Ливнев показывает мистического Сталина, сидящего, как страшный черный таракан, перед киноэкраном. В каждом фильме с участием персонажей сталинского времени прослеживается жанровый момент — будь то комедия (как неоднократно возникало в грузинском кино между Абуладзе и Иоселиани), мелодрама, фильм о дворцовых интригах или фэнтези, как, скажем, «Серп и молот» Сергея Ливнева. Жанр — величайшее достижение культуры — у нас, как известно, был табуирован всегда. Однако культура, как и человек, не может существовать без простейших физиологических отправлений. Если тебе не дают справить нужду в унитаз, ты найдешь какую-нибудь вазу. В конце концов — ты пописаешь в штаны. Тот же механизм работает и в культуре, и жанр — ее простейшее физиологическое отправление. А поскольку жанровое искусство все равно найдет себе лазейку, в сознании советского человека в качестве синонима жанровой фигуры подспудно вынашивался Сталин.

Андрей Шемякин: «Защитник Седов» — лучшая, на мой взгляд, картина об устройстве Системы, о ее тупиках и ловушках, в которые попадают те, кто пытается ей противостоять. Евгений Цымбал использует модернистский принцип, помещая реального героя в заведомо недостоверную реальность. Человек здесь не знает, чем и как отзовется содеянное им добро. Ему удается спасти одних, но на их месте должны оказаться другие. Таков закон Системы, верным слугой которой он невольно оказывается. В поставленном тогда же «Законе» Владимира Наумова жертва выживает и готова поменяться именем с другим человеком, таким же лагерником, — сказаться мертвым, никем. «Защитник Седов» и «Закон» соотносятся друг с другом как тезис и антитезис — но при всех различиях истина и добро оказываются равно условными. Можно обличить виноватого, можно спасти невиновного — суть не изменится: отдельный человек, неповторимая личность — альфа и омега шестидесятников — пасует перед безличными закономерностями. От оттепельного героизма круговой поруки добра не остается камня на камне — ты отвечаешь за свои поступки, но неизвестно, перед кем, и неизвестно, каковы будут их последствия. Страх ушел, страхи (с маленькой буквы) — пришли во множестве. Кино осваивало новые для себя фактуры, и эпоха распадалась на штампы и стереотипы, на знаки и маркирующие детали. К ней оказались «приписаны» и повторяющиеся сюжеты и мотивы. Отнюдь не случаен мотив круга, вечного повторения, вечной подмены, взаимозаменяемости жертвы и палача, оборотничества. Здесь, разумеется, нашли отражение собственные страхи и ощущения заведомого бессилия общества перед новыми бесами, буде они появятся.
Сергей Добротворский: Как только это общество дало трещину — страхи стратифицировались, как и само общество. Страх человека в Петербурге и страх человека в Москве — это совершенно разные страхи, потому что Москва и Петербург — это уже два совершенно разных государства. А страх человека из Воронежа — это уже третий страх, потому что человек из Воронежа живет в третьем государстве — в российской провинции. Страх человека перед тем, что ему не выплатят зарплату, и страх человека перед тем, что его убьют за возвращенный двухмиллионный долг — нам стало сложнее понимать друг друга. Страх, еще недавно объединявший нас, — стал многоликим и изменчивым. Вся советская идеология держалась на страхе, страхе перед некими тайными структурами, которые знают все обо всех. В этом отношении советское общество практически стало информационным. В стране царил романтический страх человека перед всем несформулированным миром. Все незнакомое, все неведомое несло в себе угрозу. Но как только была ликвидирована тотальная идеология и нам объяснили, что мы свободны и лично ответственны за каждый свой шаг, выяснилось, что общество совершенно не может обеспечить нас элементарными средствами психологической гигиены, потому что наш культурный опыт не дает нам никаких возможностей сублимировать свой индивидуальный и социальный страх в какую-либо жанровую форму, скомпенсировать его. Наше кино не выделяло чистое вещество страха, который фигурировал бы как эстетическая данность. Наоборот: оно всячески изгоняло любой художественный элемент — в сюжете ли, в пластике — который мог бы вызвать у зрителя эмоцию и физиологическое ощущение страха. И потому Сталин в советском кино в известном смысле достоин сожаления, поскольку для него как персонажа было сделано исключение: он стал олицетворением зла и страха, проводником тьмы на экран. Никогда прежде источник зла не был явлен так откровенно и внятно. Сейчас нетрудно заметить, что в сталинской теме заметна явная усталость материала. Более того: сознание зрителя настолько подавлено публицистическими спекуляциями, что каким бы гениальным ни было художественное произведение о сталинизме — оно еще долго будет оставаться невостребованным. Вероятнее всего, на каком-то этапе фигура Сталина все-таки вернется в наше кино. Когда Дэвид Линч начал делать эталонные постмодернистские картины об Америке, перед ним встала проблема культурного поля, и выяснилось, что в Америке его составляют Элвис Пресли, кока-кола, Мальборо и пиджак из змеиной кожи. Дэвид Линч доказал, что американская культура, транслируемая мощнейшими каналами коммуникации, — это те три сосны, блуждая в которых, американцы находят массу интересного. Я думаю, что если мы будем обозревать свое культурное поле, Сталин займет там непоследнее место. Реальная правда о Сталине уже никого не интересует, никакого исторического урока мы не вынесем, и пока фигура Сталина не актуальна для нашего кино, как и всякий элемент прошлого. Но это самая мощная фигура, маркирующая нашу историю, — и поэтому она рано или поздно возвратится.

Холодящие душу крики из соседнего зоопарка
Скачкообразный промежуток времени между принятием решения и отказом от него
Обморок при виде капельки крови
Как и в прошлый раз — ничегоДмитрий Александрович Пригов «Пятьдесят капелек крови»
«…В антисоветском подполье сплелись в один зловонный клубок троцкисты и бухаринцы, эсеры, меньшевики, буржуазные националисты и прочая мразь. Оптом и в розницу презренные негодяи торговали нашей Родиной-матерью. Нет места для этих извергов на нашей чудесной земле!»
Передовица «Правды» от 2 марта 1938 года
В одном пионерском лагере объявился Глаз. С виду он был глаз как глаз, но жил сам по себе. Кроме того, он был золотого цвета и размером больше головы человека. Ночью он летал по лагерю и убивал детей. Если кто-то вставал с постели. Глаз сжигал его. Взрослым он ничего не мог сделать. Однажды он пролетел между ног директора лагеря, и тому ничего не сделалось. Но детей он не щадил. Спастись от него можно было, только натянув одеяло с головой. Но одна девочка сделала в одеяле дырку и притворилась спящей. Она стала смотреть в дырку и вскоре увидела, как Глаз появился в палате. Глаз ее не заметил. Когда он выплыл в коридор, девочка тихо встала и стала красться за ним. Она увидела, как Глаз залетел под крыльцо палаты. Утром она рассказала об этом директору. Стали там копать, но ничего не нашли. У дверей палаты поставили часового с автоматом. Ночью глаз выплыл из-под крыльца. Часовой выстрелил, но пули расплавились, не долетев до цели. Часовой хотел ударить Глаз прикладом — приклад сгорел. На следующий день лагерь разровняли бульдозером, а в крыльцо перед тем выстрелили из пушки.
Летающий глаз (из «Книги страшных рассказов советских детей» в обработке и с комментариями Андрея Усачева и Эдуарда Успенского)
Почему мы октябрята?
Потому что потому.Тимур Кибиров «Стихи о любви»
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей.
У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.
Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже
у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него
не было, и спины у него не было, и хребта у него не было,
и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было!
Так что непонятно, о ком идет речь.
Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.Даниил Хармс «Голубая тетрадь N10»
…бывшие люди расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта <...>.
И. В. Сталин
…«В интимный момент N 17 я услышал следующие высказывания дедушки относительно процессов над врагами народа… Во время двадцать девятого интимного момента бабушка согласилась с тем, что советско-германский пакт — это начало новой ужасной войны. Дедушка предложил начать запасать спички, соль, топленое масло, крупу, чай, сахар и спирт». «Интимный момент N 39. Разбор произведений советских писателей. <...> Бабушка согласилась, что поэзия и проза задохнулись от восхвалений товарища Сталина. Дедушка прочитал вслух про муху-цокотуху и „Федорино горе“, но к чему это, я не понял. <...>»
Юз Алешковский «Рука»
«…В саду скрипнула калитка. Маленькая девчурка, как говорит мой друг Олеша, похожая на веник, идет в гости к моему сыну. Благополучие и незыблемость этих вечных картин меня почему-то радуют и утешают». …Так раскрывается убогая мещанская «философия» бездумного и беспечального, пошлого и эгоистического обывательского благополучия, “философия, с высоты которой пытался Зощенко критиковать и оценивать нашу советскую действительность.
Л. Плоткин. Проповедник безыдейности М. Зощенко (из сборника «Против безыдейности в литературе», 1947)
Читайте также
-
Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...
-
Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»
-
Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда
-
Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина
-
Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо






