Спасение по правилам: Политический фильм
Цикл лекций «Спасение по правилам»:

Мистер Смит едет в Вашингтон. Реж. Фрэнк Капра, 1939
WHODUNIT
Полтора года назад цикл «Спасение по правилам» открылся фильмом-утопией Фрэнка Капры «Потерянный горизонт». Примерно через те же полтора года после выхода «Потерян-ного горизонта» Капра выпустил свой следующий фильм — «Мистер Смит едет в Вашинг-тон». Именно им мы сегодня и заканчиваем наш цикл.
Вопрос о религиозных мотивах в политическом кино кажется на первый взгляд куда более простым, чем в большинстве жанров, которые рассматривались в рамках этого курса. Тонкость заключается лишь в том, что задачей почти каждой нашей встречи было найти точку пересечения между двумя линиями: «основной» — линией религиозного сознания — и «меняющейся» — той, что определена законами того или иного жанра. В том же, что касается религиозного политического кино, эту точку пересечения придётся искать не у двух линий, а у трех: у «религиозного», у «политического» и у «кино». Потому что каждая из этих линий по-своему ставит один и тот же вопрос об авторе: о том, кто все так устроил; о творце мира, представленного на экране. Эта лазейка, как мы уже не раз видели, в принципе позволяет существовать религиозному искусству. Эта подмена творца произведения творцом Мира (и обратно) рассматривалась нами, скажем, в вопросе о триллере, где Хичкок и Ланг искусно устранялись из созданного ими фильма и кивали на Творца: мол, это Он, а не я.
Однако в тех случаях такое лукавое самоустранение было частью большой, изощренной режиссерской игры, но не правилом. В том же, что касается политического кино, эта подмена выходит на первый план. Недаром в современной (в широком смысле слова) культуре первым, кто ее начал совершать систематически, был Расин в своих трагедиях, которые в равной степени ставят вопрос о власти государственной и о власти божественной.

Мистер Смит едет в Вашингтон. Реж. Фрэнк Капра, 1939
Это рассуждение может поначалу показаться чересчур умозрительным. Но попробуйте припомнить какой-нибудь политический детектив, — пусть самый простой и поточный, — и вы обнаружите, присмотревшись, что вопрос о том, кто именно незримо устанавливает ход событий в фильме, странным образом двоится. Герой тихо-мирно ест за столиком в кафе — и внезапно окна прошивает автоматная очередь. Или он пытается поговорить из телефонной будки — и её сминает грузовик без номеров. Или же он просто едет по шоссе, а его машину вдруг почему-то останавливают люди в полицейской форме со стёртыми лицами… и вновь прискорбный финал не заставляет себя ждать. Вот эти «вдруг» и «внезапно», эта внешняя немотивированность событий, которая заставляет предполагать существование таинственного закулисного злодея: всеведущего, вездесущего, всемогущего и действующего с нечелове-ческой (именно так) скоростью, — всё это составляет непременный элемент жанра. Кто про-ехал на машине с тёмными стёклами и расстрелял героя в упор? Кто придумал, чтобы это случилось так? Здравый смысл подсказывает, что так придумал сценарист. Именно он обрек героя на такую бесславную гибель без всяких внешних к тому поводов.
Однако, как мы знаем, любая подобная внезапная гибель дает режиссеру и сценаристу — в общем, автору фильма — чудесный импульс к дальнейшему развитию сюжета. Все тут же начинают бегать, суетиться: «Боже, кто же это сделал? Кто же так придумал? Почему наехала машина?» Роют землю носом и, натурально, после нескольких захватывающих сцен находят виновного. А если речь о сериале, то вскоре выяснится, что он тоже был только чьим-то орудием, так что надо искать дальше… Иначе говоря, сценарист чудесным образом «переводит стрелки» то на одного своего героя, то на другого, — имея в распоряжении не-ограниченный метраж для того, чтобы отыскать виновника внутри фильма, хотя тот на самом деле находится вовне.
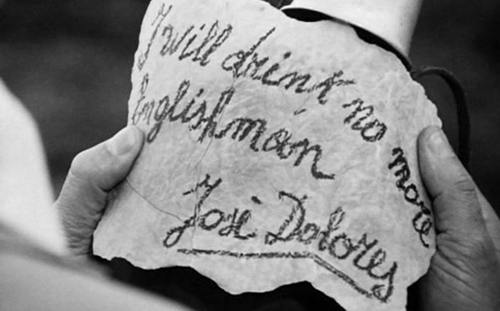
Кеймада. Реж. Джилло Понтекорво, 1969
НАМЕСТНИКИ
Если говорить, к примеру, об итальянском политическом детективе — а именно Италия, больше чем какая-либо другая страна, поставила этот жанр на поток, — то мы все примерно представляем себе, как выглядит виновник: какой-нибудь из донов, который сидит себе на террасе и обозревает залитые солнцем окрестности, — абсолютно спокоен, толст и вальяжен. И сидит он на этой террасе в позе режиссера, который как раз обдумывает детали следующей мизансцены, когда световая заливка уже выставлена. И приказ об очередном устранении отдаёт, будто командует «Мотор!» В хороших политических детективах режиссеры и не скрывают, что любой, кого они позволят найти своим героям-правдоискателям, будет всего лишь тенью их самих.
Другой вариант решения той же сцены, столь же правомочный, можно обнаружить, например, в «Крестном отце» (который по своему устройству куда ближе к итальянской тра-диции, нежели к американской), где автор — демиург, несущий ответственность за все происходящее, — наоборот, сидит незримо в темной комнате. Кукловод, который дергает за ни-точки, протянутые во внешний мир. Не то объект, не то субъект ритуала целования руки, пародирующего ватиканский регламент.

Кеймада. Реж. Джилло Понтекорво, 1969
Недаром вторая и третья части «Крестного отца» так отличаются от первой: сколь бы внушительны ни были режиссерские навыки и таланты Аля Пачино, разумеется, в роли Бога с Марлоном Брандо мало кто может сравниться. Стоит также припомнить, что Коппола берет Брандо на роль Дона Вито Корлеоне как раз после того, как тот сыграл похожую роль в фильме одного из ведущих мастеров итальянского политического фильма Джилло Понте-корво «Кеймада». Там Брандо тоже выступал в роли наместника верховной власти — в мирке небольшого Антильского острова. Там Брандо (точнее говоря, его герой… хотя неизвестно ещё, что точнее) был волен устраивать геноцид — подобно Господу, который время от времени насылает на род людской мор или глад, — и вообще вершить судьбами местных жителей как ему заблагорассудится, не сообразуясь ни с какими высшими законами; потому что никаких высших законов для Марлона Брандо, разумеется, не существует.
Длинная цепочка наместников как драматургический приём получает такое распространение именно в итальянском кино по вполне элементарной причине. Италия, как страна, на территории которой по воле судеб разместился Ватикан, копирует своё социальное устройство (уже, может, и не сознательно, а на уровне векового рефлекса, инстинкта подражания) с иерархии наместников Божьих на земле. Поэтому надо признать, что как бы ни ста-рались итальянские власти установить демократический строй у себя в стране и пересилить власть мафиозных донов, вряд ли у них есть хоть какой-то шанс на успех, — ну, по крайней мере, пока они не отрекутся напрочь от своей национальной идентичности. Позиция верховного иерарха — будь то Господь, папа или очередной мафиозный дон — вживлена в эту культуру накрепко.

Христос остановился в Эболи. Реж. Франческо Рози, 1979
Что и делает Италию единственной страной, которая умудрилась жанр политического фильма возвысить до статуса высокого искусства. Политическое кино снимается в большинстве стран, где общество, к своему несчастью, зависит от политического курса — то есть, собственно, повсюду: во Франции, в Англии, Испании или Германии. Но только в Италии могут возникать такие фигуры, как Джилло Понтекорво, Элио Петри — или Франческо Рози: пожалуй, главный гений политического кино, который умудрялся в коррупционных схемах, составляющих основу его сценариев, в хитросплетениях властных структур с их войнами и алчностью, узреть эстетические, а значит, мировоззренческие механизмы. И, возможно, лучший из когда бы то ни было снятых политических фильмов — это фильм Франческо Рози «Христос остановился в Эболи». Его действие разворачивается в фашистский период и рассказывает о вольнодумце-интеллигенте, сосланном, говоря по-русски, «за
Поэтому и в Италии, и в других католических странах (в католических, потому что именно католицизм признает преемственность власти наместника Христа на земле, папы) игра в политический фильм всегда оборачивается именно что игрой, причём двойной. Режиссер делает вид, что ищет Бога, а находит мафиози.

Взгляд из Параллакса. Реж. Алан Дж. Пакула,1974
НЕНАЗЫВАЕМЫЕ
Другой вариант политического жанра — соответственно, бытующий в протестантских странах; в первую очередь, в Америке. Здесь нет наместника, данного сверху. Здесь есть правитель — номинальный, необязательный, избранный большинством голосов. Там, где ка-толики свято чтят верховную власть, протестанты признают право любого на прямое общение с Создателем — и неизбежно приходят к демократической схеме.
А потому и вопрос о том, кто виноват, — который в кинематографе католических стран, как правило, находит ответ, пусть и фиктивный, — в кинематографе стран протестантских, как правило, обречен на отсутствие ответа. Или, в переводе на политический язык, на искусно спрятанные концы в воду. Будь то фильмы Алана Джона Пакулы, который ввел в американский обиход политический триллер как жанр, — в том числе лучший из них, «Взгляд из Параллакса»; будь то фильмы Оливера Стоуна — в том числе, вероятно, лучший из них (по крайней мере, в этом жанре), «Дж. Ф. К.», — всякий раз ответ на вопрос о конкретном виновнике — или, иначе говоря, об авторе — утыкается в анонимность. Бог, режиссер, верховный правитель, главный преступник — неопределим. Просто некоторая Система, которую самые мрачные из режиссеров склонны отождествлять с фатумом, привела к тому, что обстоятельства сложились таким образом. Как говорилось у Беккета, «ничего не подела-ешь».

Взгляд из Параллакса. Реж. Алан Дж. Пакула, 1974
У потомка польских евреев Пакулы эта система разрастается до кафкианских масштабов, и веет от нее кафкианским же ужасом: система, которая не человека, не Бога, а саму себя полагает венцом мироздания. У Стоуна же, который благодаря материнскому воспитанию до девяти лет куда лучше говорил по-французски, чем по-английски, и в известной мере вос-принял латинское культурное сознание, можно даже различить ту самую темную комнату. Но в отличие от копполовской, в которой восседает одинокий Брандо, в тёмной комнате Стоуна мелькают, роятся крупные планы и силуэтные профили. Судьбы мира вершатся там кол-лективно, по взаимному согласию.
Американский политический фильм, ищущий первопричину, как правило, превращается в своеобразный гимн паранойе. Если ответственность не персональна, если всё решает анонимная система, повсюдная и безликая, то угроза таится за каждым углом. Собственно, ее воплощает каждый угол. И американские режиссеры в этом своем мироощущении настолько последовательны, что, например, когда однажды Пакула просто сидел в своей машине, припаркованной у обочины, из-под колес проезжавшего мимо грузовика вылетела балка, пробила лобовое стекло и пронзила Пакулу насквозь. Это может выглядеть кадром из фильма «Пункт назначения», — современной киноапологии фатализма. Но логика события кажется позаимствованной из триллеров самого режиссера.
Пожалуй, единственный американский режиссер, который не раз заступал на территорию политического жанра и умудрился при этом не стать параноиком (что нелегко в демократическом обществе), — это как раз Фрэнк Капра. Здесь надо сразу оговориться: судя по большинству его фильмов, Капра, потомок сицилийских земледельцев, — вполне правоверный католик. Однако в том единственном случае, когда фильм Капры полностью вписывается в политический жанр, а не только использует отдельные его линии в собственных целях, — и это как раз сегодняшний фильм, — само устройство материала, то есть американской политической системы, чудесным образом перелицовывает его на сугубо протестантский манер.

Взгляд из Параллакса. Реж. Алан Дж. Пакула, 1974
Казалось бы, даже сам заглавный герой фильма Капры, мистер Джефферсон Смит, яв-ляется полноправным наследником другого Смита, Инносента, — героя самого жизнера-достного из когда либо написанных католических романов: «Жив-человек» Гилберта Кита Честертона, чье влияние на Капру легко проследить в очень многих его фильмах.
Однако, как помнят все, кто читал роман, с косностью взглядов и систем, бытующих в современном ему обществе, Иносент Смит справлялся, не произнося почти ни слова. Он просто проделывал некоторое количество действий, предоставляя судьям интерпретировать их как действия ритуальные. И последовательность этих поступков, движений, жестов, — своего рода священный танец, — складывалась в восхитительный в своей витальности смысл сущего. Это в полной мере католический извод темы, когда смысл таинства зашифрован в очерёдности жестов, звоне колокольчика, цвете и шитье обрядовых одежд и т. д.
Как известно, католицизм сменяется на протестантизм в тот момент, когда слово, сказанное на неизвестном, мертвом, латинском языке, слово, которое до того также носило для прихожан сугубо ритуальный смысл, решают перевести на язык понятный, употребительный. И тогда слово, перенятое протестантскими проповедниками, становиться самым грозным оружием этой конфессии. Роль Слова (или, как бы сказал человек с более основательной философской подготовкой, роль Логоса) в ходе событий в мире для протестантизма выходит на первый план.
Недаром именно протестантский дискурс порождает особое искусство риторики, кото-рое дискурсу католическому почти неведомо. Классическая католическая риторика, будь то итальянская или французская, при всей своей изысканности всегда внутренне замкнута: без-упречно логична, доказательна — и самодостаточна. Ценимая знатоками, она пренебрегает широкой известностью среди профанов. Достаточно обратиться к клише школьного образования: самым известным оратором в истории Италии числится главный «протестант» — в буквальном смысле — против папства Савонарола, а в истории Франции — Марат, у которо-го с Богом были, скажем так, существенные разногласия.

Дж. Ф. К. Реж. Оливер Стоун, 1991
Ораторство человека, не облеченного саном, не призванного к ораторству самой своей профессией, — для католического сознания занятие сомнительное. Претензия на владение словом, правом на которое тебя никто не наделял. Протестантизм же, начиная от Лютера, зиждется на ораторском искусстве. И лучшим воплощением этого обычая, воплощением в государственных масштабах, становится именно Америка. Та, что по сю пору клянется и ки-чится риторикой своих отцов-основателей. Та, чья судебная и политическая практика густо замешана на цитатах из Вашингтона, Джефферсона, Адамса, Линкольна, Франклина… список можно продолжать. Это тот способ мысли, который вживлен в культурное сознание нации. Это то, что помогает им — опять же, по сю пору — обладать лучшей в мире публицистикой; то, что превращает их судебные процессы в своеобразное словесное состязание. Достаточно вспомнить финальный эпизод упомянутого уже фильма «Дж. Ф. К.», который представляет из себя
Потому что вопрос, который в иерархическом католическом обществе звучит: «Кто все устроил именно так?», — в демократическом протестантском принимает форму: «Почему это устроил не я?» Или — «Как я могу это переустроить? как я могу повлиять на ход вещей?» В итальянском политическом детективе мы, зрители, ищем режиссера; в американском же каждый персонаж — или, по меньшей мере, главный персонаж — пытается стать режиссером сам. В самом чистом виде, на уровне фабулы, это воплощено в первом послевоенном фильме Капры, ныне самом популярном в его творчестве, — «Эта чудесная жизнь», где главный герой, которого, как и сегодняшнего, играет Джеймс Стюарт, внезапно обнаруживает, что весь ход вещей зависит от его присутствия в мире, что все было определено им. Он даже не пытался быть Богом — просто оказалось, что он им является.

Дж. Ф. К. Реж. Оливер Стоун, 1991
Сегодняшний фильм — по крайней мере, с точки зрения жанровой схемы, — устроен куда острее. Можно сказать, куда прямолинейнее. Главный герой обнаруживает, что мир устроен не так, как лично ему хотелось бы, как лично ему представляется справедливым. В одной из лучших в истории кино финальных сцен Капра устраивает огромный, чуть не получасовой сеанс риторики Правящего Слова, где основание американского государства — его Конституция — используется в качестве Священного Писания. И это не кощунство — это понимание того, чем на самом деле должно являться и, по мнению Капры, является слово по отношению к законам окружающего мира. Того, какую власть звучащее Слово должно иметь над миром.
И оказывается, что для того, чтобы пробудить в человеке совесть, чтобы усмирить чернь, которая, как когда-то в Иерусалиме, становится послушной игрушкой в руках властей и кричит в адрес главного героя: «Распни его!», чтобы разграничить правду и ложь и утвер-дить первую, опрокинув последнюю, — для всего этого достаточно просто долго говорить. Так долго, как понадобится. Так долго, насколько хватит человеческих сил. Чтобы, в конце концов, Слово, которое было в начале — неважно: мира, государства, общества или человека, — настояло на своем.
Иначе зачем было читать этот курс лекций?






