Воспитание после ГУЛАГа
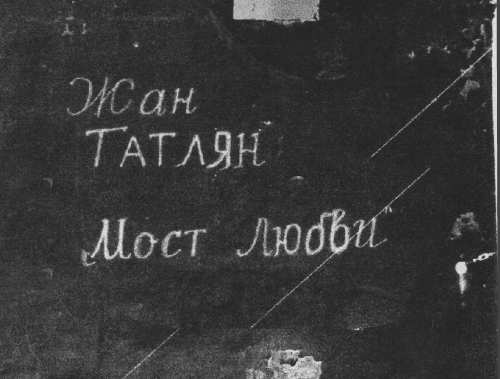
Чем более мирным и потребительским делается общество, тем большее впечатление производят отходы его духовной жизни, испускающие совсем уж отчетливый запах серы
В ходе преобразований последнего пятилетия исчез дефицит, и мы получили изобилие не только колбасы, телевизоров, автомобилей и жевательной резины, но также министров-казнокрадов, мэров-самодуров, банкиров-бандитов и многого всего другого из многовековой сокровищницы печального людского опыта. При таком неукоснительном появлении всех чирьев и болячек свободного мира не удивительно, что не заставил себя ждать и приход новых левых, т. е. людей, вновь призывающих: «Клячу истории загоним!», вновь готовых раздувать пожар мировой (на худой конец — внутрироссийский).
При этом, подобно своим коллегам Сартру, Маркузе, Гароди и пр., по своему социо-психическому облику они не принадлежат ни к натуральным бунтарям-пролетариям вроде Анпилова, ни к обкомычам типа Купцова с Зюгановым, а воплощают чистый тип обуянного гордыней интеллигента.
В этом и новизна.
Некоторое удивление связано с тем, что хотя бы на подсознательном уровне люди еще помнят, как на интеллигентских кухнях брежневских времен западным новым левым выносился не подлежащий обжалованию приговор — «С жиру бесятся гады!» и «Коммунистов на них нет!». Но как только коммунистов на нас также не стало — забесились и мы. В самом деле, идеологический аппарат т. Суслова был универсально охранительным, предохраняя, наряду с прочим, и от новолевых выкрутасов. Идиосинкразия, вызывавшаяся всем, что имело хоть какое-то отношение к всепобеждающему учению — «бур бес, сер бес, все одно бес» — делала идеологические изыски западных новых левых недоходчивыми.
Аппарат т. Суслова исполнял важную профилактическую функцию memento mori, самим своим существованием ежечасно напоминая, чем на практике кончается мыслительная ширь тт. Сартра, Маркузе etc. Жизнь в реальном социализме давала стойкий иммунитет от духовных соблазнов западного левачества, но взамен порождала более тонкий соблазн гордыни: уверенность в том, что уж для нас-то левый соблазн — не соблазн вообще. Из виду упускалось простое соображение: если в иные эпохи (конец 60-х, например) западная интеллигенция едва ли не поголовно отдается левачеству, а назвать интеллектуала «правым» почитается за худшее оскорбление, то недостойно и легкомысленно было бы списывать такое положение дел лишь на то, что одни интеллектуалы суть почти открытые агенты Москвы, а другие — патологические — Дураки (хотя и те, и другие случаи, конечно же, имели место). Глубинная причина левого подпора в том, что присущая классу интеллектуалов убежденность в том, что реальный мир есть не более чем объект для интеллектуального творчества, была кстати подкреплена двумя, важными новыми аргументами.
С одной стороны, зримый переход западного общества в постиндустриальную стадию резко увеличил в общественном балансе долю пролетариев умственного труда (по-русски говоря, «образованцев»), совершенно недовольных своей ролью интеллектуальной прислуги буржуазного истэблишмента и претендующих на более почетное место в общественной иерархии. Вместо индустриальной идеологемы «руки рабочих создают все богатства на свете» явилась постиндустриальная — «языки интеллектуалов создают все богатства на свете», вследствие чего традиционная интеллектуальная безответственность как бы получила неоспоримую идеологическую санкцию.
С другой стороны, вышеназванный общественный сдвиг позволял разом отмыться от двух равно нежелательных коннотаций, которыми обросло понятие левизны. «Старые левые» представали к тому моменту в двух ипостасях, намек на сродство с которыми был совершенно нежелателен для интеллектуалов. К тому моменту была реализована положительная квинтэссенция левых мечтаний — обуржуазившийся западный рабочий с его социальной защищенностью, культом потребления и абсолютной неготовностью штурмовать небо.
Сбывшаяся многовековая потребительская мечта человечества была невыносима, во-первых, потому что потребительская, во-вторых, потому что сбывшаяся — «радио есть, а счастья нет». К тому же потреблять можно было (и даже лучше было) и без Сартра с Маркузе — а на что же они тогда нужны?
Вполне реальным оказался и другой, более продвинутый итог завета «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой», что породило не меньшие проблемы. Коммунистическое общество сперва явило миру неслыханные в истории злодеяния, совсем не замечать которые было, конечно, можно, но иногда трудно, а напоследок сделалось еще хуже, обратившись из кровожаждущего чудовища (что, по крайней мере, впечатляет удаленно расположенного интеллектуала) в расплывшуюся ригидную тушу, на которой вдруг начинают проступать все те же невыносимые черты консерватизма и конформизма.

Для успешной продажи новолевой идеологической продукции необходимо было всячески топить конкурентов-предшественников — как своих западных розовых, погрязших в конформизме и потребительстве, так и советских красных, погрязших в конформизме и властолюбии.
Подход вполне логичный. И западного «синего воротничка», и советского номенклатурщика, которые, согласно старолевому учению, оба были братьями-пролетариями, от чаемого идеала отделяло, кроме разных других малопривлекательных черт, и самое главное: и тому, и другому было очень много чего терять, кроме своих цепей, — между тем, чтобы новое учение было всепобеждающим, его субъект должен отличаться значительно более высокой степенью беспочвенности.
Гораздо лучше на этот случай годится субъект, описанный еще Розановым. Некий русский разорившийся князь, проживая во Франции в конце XIX века, воспылал высокими чувствами и пошел по улице манифестировать с красным знаменем, за что был отведен ажанами в участок. Ажаны были вежливы и, составив протокол, князя тут же выпустили, но эта история произвела на него неизгладимое впечатление, и он устно и письменно стал изобличать растленный буржуазно-демократический режим Третьей Республики в выражениях, чрезмерно сильных и суровых даже для характеристики царствования Иоанна IV. Розанов резонно замечает: «А что же ему еще было делать? Представьте себе человека без состояния, без семьи, без религии, без родины, без любимой профессии, для которого только и радости в жизни, что походить с красной тряпкой по улице — так и той радости лишают. И как тут не взбеситься?!».
Поскольку международная интеллектуальная богема состоит примерно из таких людей, странно было бы ожидать, что результат будет другой, нежели во времена Розанова. Более того — общество потребления плодит таких людей и предоставляет им средства к существованию в неизмеримо больших количествах, нежели жестокий старый капитализм, и естественно же тотально и контркультурно ненавидеть равнодушно прикармливающее их потребительское общество, из чувства мести за презрительные благодеяния пестуя неистовую «культуру протеста».
Что же до проблемы, стоящей в названии заметки — как не стыдно или не боязно рубить сук, на котором сидишь, и в пылу своих сытых истерик страстно призывать (после всех кошмаров XX века) на людское общежитие новые Холокосты и ГУЛАГи? — то не стыдно и не боязно и по очень простой причине.
Credo новых левых состоит в том, что, во-первых, никакого гулаговского ада на самом деле не было (тут они сближаются с новыми правыми, держащимися сходного мнения об Освенциме), а во-вторых, жертвами истинных гулаговских зверств являются они сами, причем здесь и сейчас, ибо их мстительные чувства по отношению к мирозданию велики, а нет страшнее муки, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить. Наиболее симпатичны (если такое слово тут вообще применимо) из них играющие на конъюнктуре цинические прохиндеи. Самые же чистые и искренние из новых левых вроде философа Зиновьева или некогда, при Брежневе, автора либеральнейшей «Химии и Жизни», а ныне автора «Советской России» С. Г. Кара-Мурзы производят впечатление более сильное — «Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море, но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего». Чем более мирным и потребительским делается общество, тем большее впечатление производят отходы его духовной жизни, испускающие совсем уж отчетливый запах серы. Воспитание после ГУЛАГа идет полным ходом, и плоды такого воспитания много обещают. Как было сказано в одной повести, «век столь просвещенный, что ему пришлось оказаться к тому же и последним».
Читайте также
-
Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...
-
Official Social Link Xray Vision an Accidental Discovery that Revolutionized Medicine
-
Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»
-
Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда
-
Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина






