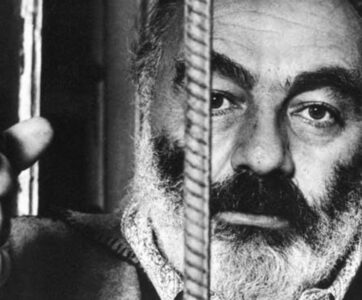«Песни Абдула»: Рождение идентичности

«Песни Абдула». Реж. Анна Моисеенко. 2016
Главный герой фильма Анны Моисеенко «Песни Абдула» — Абдумамад Бекмамадов, трудовой мигрант из Республики Таджикистан, живущий 12 лет в Москве в общежитиях и на съемных квартирах вскладчину, переезжая из одного спального района Москвы в другой. Со сцены такого переезда и начинается фильм: камера стоит напротив узкого лифта, из дверей которого пожилой мужчина вытаскивает замотанные черным скотчем хозяйственные сумки. Абдумамад — один из тех незаметных людей, кто заменяет бочки с пивом в ресторанах, кладет плитку на тротуарах и делает ремонты в квартирах. Только, в отличие от миллионов иностранных граждан, занятых в России неквалифицированным трудом, у него есть полноценная вторая жизнь. Абдумамад — профессиональный поэт-акын, а за роль в спектакле «Акын-опера» московского Театра.doc ближе к финалу он получит специальный приз жюри на «Золотой маске» с формулировкой «за преданность традиционной музыкальной культуре своего народа в экстремальных жизненных условиях».
Делать невидимое — видимым, обнаруживать слепые зоны нашего зрения — основы художественного метода Марины Разбежкиной. Поэтому нередко героями фильмов ее студентов и выпускников становятся «невидимые люди» — бездомные, как в «Милане» или «Песнях для Кита», или трудовые мигранты, как в «Чужой работе» и «Песнях Абдула».

«Чужая работа». Реж. Денис Шабаев. 2015
«Чужая работа» Дениса Шабаева вышла на год раньше фильма Анны Моисеенко и стала одной из самых успешных картин, снятых студентами и выпускниками Школы (фильм не только объездил десятки мировых фестивалей, но и получил приз за лучший дебют основного конкурса «Кинотавра» — абсолютно уникальный для российского документального кино случай). Герой этого фильма Фаррух — тоже трудовой мигрант из Таджикистана, живущий в Москве, и тоже артист, только ему достаются все больше эпизодические роли в сериалах. «Чужая работа» начинается с «кастинга» в отделении ФМС России в Таджикистане, где из множества людей, которые проходят интервью, камера как будто случайно выбирает одного, а дальше честно и неотступно следит за ним в течение двух лет. Зрители погружаются в жизнь таджикской диаспоры в Новой Москве, и следят вместе с режиссером за судьбой главного героя, которая внезапно делает неожиданный поворот — сыграв роль безвинно осужденного дворника в российском сериале, Фаррух и сам вскоре оказывается за решеткой. Эта возникшая на наших глазах остросюжетная линия словно бы перечеркивает плавный ритмический рисунок фильма, точно так же, как и судимость героя перечеркивает его планы на будущее — освободившись по амнистии, он едет в Таджикистан, понимая, что в Россию ему, скорее всего, уже не вернуться.
Несмотря на то, что в какие-то моменты режиссер чуть ли не дышит в одном ритме со своим героем (особенно это видно в одном из первых эпизодов, где Фаррух опаздывает на съемочную площадку, и долго бежит по Москве, а камера бежит за ним след в след), между камерой и героем сохраняется чувственная дистанция. Она задается еще в самом начале фильма, когда мы смотрим на Фарруха глазами чиновника ФМС. И этот оценивающий взгляд государственной машины, на месте которой оказывается зритель, и есть настоящий взгляд на «чужого». В этот взгляд, в эту бездушную оптику всегда будет упираться наше зрение, вступая с ней в конфликт. Шабаев располагает свою камеру точно на границе, где два этих взгляда, два типа зрения пересекаются. И дистанция между автором и героем установлена здесь таким образом, чтобы герой не был объектом антропологического наблюдения, но и не становился «близким» зрителю — Шабаеву важно, чтобы невидимая граница между зрителем и героем стала видимой, явной. Режиссер работает в первую очередь со зрением, которое привыкло не видеть других, маркируя их как «чужих» — как с индивидуальным зрением, способным перенастроиться, так и с коллективным, слепые пятна которого в том числе образуют систему отношений в обществе. Шабаев словно бы приоткрывает зрителю двери в маленький мир, рожденный из глобальных процессов в мировой политике и экономике — камера и ее дыхание, синхронизированные с ритмом жизни героя, являются проводником из одного мира в другой.

«Песни Абдула». Реж. Анна Моисеенко. 2016
У «Песен Абдула», при внешней схожести обстоятельств жизни героев, совершенно другая задача. В первую очередь, потому что проводником в тот же самый мир является не только камера Анны Моисеенко, но и, конечно же, поэзия ее героя. Если в «Чужой работе» система отношений внутри фильма выстраивается между камерой (с которой зритель вполне способен идентифицироваться) и героем, то в «Песнях Абдула» реальность многослойна, а у взгляда режиссера нет монополии на ее отражение. Камера здесь идет за поэтом, который уже описал эту реальность на своем языке. И язык документалиста вступает здесь в отношения не только с героем, но и с его поэтическим языком (кроме прочего, «Песни Абдула» — один из лучших фильмов о поэте и поэзии, когда-либо снятых в мировом кино).
Герой Моисеенко живет в двух (а то и трех) реальностях одновременно. В одной реальности он — классический «невидимый человек», который берется за любую неквалифицированную работу и делает ее, прямо скажем, без энтузиазма. В другой — он артист Театра.doc, который исполняет на сцене свои песни. Но Абдумамад не просто поэт-акын — в своем творчестве он помещает в рамку традиционной народной песни историю своей жизни трудового мигранта в Москве. То есть, в этой второй реальности он описывает свою первую реальность, используя мотивы и структуру народного эпоса. Рассказывая таким способом о жизни трудового мигранта в Москве, он фактически пишет эпос для сверхновой идентичности. Делает себя, невидимого в первой реальности, видимым — во второй. Фиксируя исполнение песен Абдумамада, камера фиксирует — ни много ни мало — рождение этой идентичности (представим себе, что где-то в Древней Греции обнаружили пленки, на которых «Илиаду» читает Гомер).

«Песни Абдула». Реж. Анна Моисеенко. 2016
Но, снимая повседневную жизнь Абдумамада (то есть, его первую реальность), язык документального кино оказывается неизбежно тавтологичен по отношению к его песням. Вот мы видим, как герой живет в Москве, и тут же — слышим как он (специально для фильма — павильонная съемка, выставленный свет) сам ее описал: «Нет места в квартире, пятеро спят на диване, пятнадцать на полу. Брюки положу под голову вместо подушки. Косточка моя, жемчужина моя, хорошие памирцы, мы приехали в Москву».
Но есть еще третья реальность Абдумамада, в которой он — отец семейства в памирском районе в Таджикистане, откуда он уехал 12 лет на заработки в Москву. В центре фильма Моисеенко — возвращение героя домой. Эта третья, сокровенная реальность, совсем никем не описана — ее-то и проговаривает камера, сталкивая Абдумамада-отца, Абдумамад-поэта и Адбумамада-мигранта в пространстве одного фильма. Точнее, режиссер предъявляет нам обстоятельства рождения поэтического языка и той реальности, которую он описывает. Именно оно и становится главным событием фильма (при том, что классических событий, на которых можно было бы строить драматургию, здесь более чем достаточно — герой впервые видит своего двенадцатилетнего сына и постаревшую на 12 лет жену, гуляет на свадьбе дочери, наконец, получает приз на «Золотой маске»). И если Шабаев в «Чужой работе» исследует индивидуальную и коллективную оптику — наше зрение, которое видит или не видит другого, то Моисеенко работает с оптикой героя, фиксируя процесс рождения его самосознания.