Границы контроля
СЕАНС — 43/44
Несколько лет назад мы делали номер, целиком посвящённый документальному кино и, конечно, не могли обойтись без материала о том, как живётся документалистике на европейском телевидении. Тогда мы поговорили с двумя редакторами-заказчиками [commissioning editors] — Ангусом МакКуином с Channel 4 и Ником Фрейзером с BBC2…
А… Ангус! Он уже давно не работает на Channel 4. Кажется, он продержался там только полгода, не больше. Так что вы подоспели вовремя. На самом деле он очень хороший режиссёр.
Так вот — в тот раз нам рассказали о британской теледокументалистике с точки зрения заказчика. Было бы интересно услышать, что скажет режиссёр.
Начнём с того, что опишем в двух словах систему. В Британии очень много телеканалов. Но большое документальное кино обитает в основном на тех, которые называют метровыми, — это BBC1, BBC2 (сейчас у них уже есть третья и четвёртая кнопки), а также Channel 4 и в некоторой степени ITV. У всех каналов различные аудитории. По крайней мере, так им кажется. И, следовательно, они очень жёстко держатся за свою аудиторию. У этих каналов различные подходы, форматы, протоколы отбора. Скажем, на BBC, который представляет собой гигантскую корпорацию, очень много редакторов-заказчиков. Например, упомянутый вами Ник Фрейзер работает на BBC2 и делает большую линейку документального кино Storyville — в основном это большие, полнометражные фильмы, которые BBC снимает совместно с различными зарубежными компаниями. Как это работает? Фрейзер обычно поддерживает уже запущенные фильмы, ориентируется на известных режиссёров и компании, пытается найти среди уже существующих проектов то, что подошло бы его документальной линейке. Оригинальных фильмов Фрейзер делает только шесть-восемь в год. А сеансы у них каждую неделю. Представляете, какой поток?

А много таких «линеек»?
Он только один из десятков редакторов. ВВС ежегодно вкладывает гигантскую сумму в документальное кино, хотя и не сравнимую с бюджетами игровых проектов. У Channel 4, скажем, совершенно другая позиция. У них, в отличие от BBC, который живёт на деньги от пользовательских взносов, есть реклама. И хотя это не вполне частная компания, их очень волнуют рейтинги. Это, конечно, не означает, что каждая программа и каждый фильм заточены на то, чтобы собрать максимальную аудиторию. Просто они должны быть конкурентоспособны. И поэтому они заказывают документальное кино самого широкого спектра. Фильмы должны на равных соревноваться со своими прямыми конкурентами. Поэтому на Channel 4 есть провокационные, ориентированные на музыкальную молодёжную культуру, очень попсовые фильмы, а есть по-настоящему художественные, авторские картины — но вообще-то их с каждым годом всё меньше и меньше. Ангус МакКуин как редактор-заказчик Channel 4 мог одновременно делать фильм под названием «Новая королева британской моды» и полнометражку о паломниках в Иране (мой фильм «Однажды в Иране» был заказан как раз Ангусом). То есть существует гигантский спектр документальной продукции, и то кино, которое мы привыкли называть документальным, — только крошечная часть этой индустрии.
Я думаю, что ограничения, накладываемые системой, несут в себе и положительный заряд.
А какова ваша роль в этой сложной системе? Кто обеспечивает производство ваших фильмов?
Я фрилансер, вольнонаёмный режиссёр. И обычно работаю с независимыми компаниями, которые производят кино для вещателей. Как правило, всё начинается с того, что у меня или у какого-то независимого продюсера рождается идея. Ну, скажем, мы хотим сделать фильм о Петербургском кинофоруме. Инсайдерские истории, интервью из штаба фестиваля… Это, конечно, не слишком зажигательная тема для британской аудитории, но, скажем, редактор BBC мог бы заинтересоваться. Вспомнил бы, что они как раз делают сериал о главных событиях культурной жизни в других странах, и такой фильм очень хорошо встал бы в эту линейку, а значит, почему бы нет — пишите заявку, подумаем. Тут нужно понимать, что существует некая конъюнктура редакторского спроса. Если бы я пошёл к тому же Ангусу и сказал: «В России в 2012 году выборы, а у меня есть выход на человека, который пишет речи для Путина», — он бы у меня такую историю с руками оторвал.
Есть редактор, и он ориентируется на некое понимание спроса, конъюнктуры, а режиссёр что?
Ситуация в Британии очень хаотична. Идёт великая война за зрителя. Режиссёр в этой войне — простой солдат, которым руководят генералы от медиа, вещатели. Они ставят перед собой понятную задачу — сначала завоевать аудиторию, а, завоевав, сохранить. Заказчики полагают, что знают, на что купится зритель, включив телевизор. За последние десять-двадцать лет эта часть индустрии превратилась в огромный маркетинговый механизм. Даже BBC, которому наплевать на рекламу, участвует в борьбе за рейтинги. Сегодня разработаны уникальные методики для измерения реакции зрителей на ту или иную программу. Важно уже не просто сколько человек посмотрели твоё кино, но и то, в какой момент зрители сочли фильм увлекательным, а в какой момент они, напротив, приуныли. Эти научные методы, с точки зрения режиссёра, конечно, — нечто абсолютно чудовищное. На BBC есть комнаты, в которых целые стены состоят из телевизоров. Там показывают все каналы, которые в данный момент транслируются в Британии. И есть специальные машины, которые понимают, когда и как зритель переключает каналы. И вот на основании этих данных тебе могут сказать, что, допустим, через шесть минут после титров в фильме нужна кульминация. Не будет кульминации, ты — покойник. Человека нужно зацепить в самом начале фильма, это очень важно, говорят тебе. Кстати, влияние этих рейтинговых машин хорошо видно в американском документальном кино, там режиссёры в первые пять минут фильма укладывают свои самые-пресамые кадры: поцелуй, убийство, погоню — чтобы зритель тут же подключился к экрану.

Англичанин спустился с горы
А у вас с этим как? Вот в начале фильма «Петербург!» вы под музыку Каравайчука целых пять минут вплываете в город…
«Петербург!» снят в 1992 году. Тогда мы работали совсем иначе. Нужно учитывать, что нам приходилось высылать фильм в Англию частями, которые показывали по телевидению как отдельные произведения. Это были так называемые «Письма из Петербурга». Потом уже их склеили в единый фильм. Сейчас такое кино было бы невозможно. Слишком медленно. Но ведь нам так приятно послушать, как играет Каравайчук.
Процесс, который шёл в индустрии последние двадцать лет, можно охарактеризовать как процесс перехода власти от режиссёра к редактору-заказчику. А редакторы — это люди, которые постоянно находятся под прессом статистики и телевизионных чиновников. Но редакторы не железные, они долго не выдерживают и часто меняются. Поэтому режиссёры часто даже не успевают с ними толком познакомиться. Кто-то из них считает, что «Channel 4 не делает фильмов, которые заставляют людей грустить». Невесёлая мысль, на мой вкус. А другой редактор вполне серьёзно заявляет: «Я делаю только такое кино, которое может понравиться моей маме. Мою маму Ливан не интересует». Увы, во время работы над фильмом часто оказывается, что твой главный зритель — это редактор-заказчик. На начальном этапе самое главное для режиссёра, задумавшего некое кино, — добраться до следующей встречи с редактором. Если ты сделаешь что-то не так, договорённость сорвётся и ты останешься со своей идеей наедине. А вот когда, наконец, очередная встреча завершается подписанием договора, у режиссёра развязываются руки. Можно хулиганить, нарушать обещания, игнорировать правила. Правда, нужно помнить — если фильм будет плохим, за своё нахальство ты заплатишь сполна. Система телевидения в этом смысле мало отличается от Голливуда. Ты приходишь, тебе дают деньги, и после этого ты уже не можешь сказать: мне на всё плевать, я буду делать фильм как захочу. Ты пытаешься сделать кино, которое будут смотреть люди. А это, ей-богу, не мешает делать хорошее кино. Это сделка. Но на ту же сделку шёл Диккенс, шёл Достоевский, шёл Бальзак. И мне кажется, что я сегодня намного свободней всех этих великих авторов XIX века. Вы подумайте — ведь им нужно было придумывать кульминацию для каждой новой главы!
Когда предмет фильма широко известен, редактору не приходится ничего объяснять и режиссёр может незамедлительно начать думать.
А вас не утомляет соревнование, в котором вы постоянно участвуете? Вы бы не хотели оказаться в ситуации канала Arte, когда вы не связаны ничем и не обязаны бороться за аудиторию?
Я думаю, что ограничения, накладываемые системой, несут в себе и положительный заряд. Как один из миллионов британских зрителей, я не в восторге от того, что большую часть фильмов, сделанных на материке, очень трудно смотреть. А как режиссёр, который имел опыт общения с немецкими и французскими продюсерами, я могу вам сказать, что тиски этого арт-кино намного суровей порядков на BBC. В Англии, когда вы дошли до конца предварительных переговоров, ударили по рукам и получили заказ, вместе с договором вы обретаете независимость. Вам доверяют. Иногда доходит до смешного: когда мы делали фильм о Берлинской стене, мы показали первую сборку фильма продюсеру лишь на десятой неделе монтажа. Всего их было двенадцать. Понимаете? Я очень ждал этого просмотра — храбрая женщина-продюсер, с которой мы до этого не работали, должна была войти в монтажную и увидеть фильм про Берлинскую стену, который начинается с цирка… Но нам всё сошло с рук.
Хорошо, редактор удовлетворен, договор подписан… Но когда вы делаете кино, кого вы себе представляете на месте зрителя?
Когда я был молод, когда я ещё только мечтал стать писателем или режиссёром, у меня была такая проблема — мне казалось, что мне не хватает любопытства. Предметов, которые были бы мне любопытны настолько, что я мог бы о них писать. Сегодня, когда я снимаю фильм, мне интересно фактически всё, чего я касаюсь. И мне кажется, что публика тоже любопытна. И задача режиссёра состоит в том, чтобы пробудить интерес в зрителе, подогреть его. Я не думаю, что моя мама интересуется Ливаном. Просто нужно создать такую атмосферу, такую историю, в контексте которой Ливан будет моей маме интересен. А это посильная задача.
Кажется, вы сейчас немного лукавите. Темы ваших фильмов изначально интересны публике. Иран, Беслан, Вьетнам, цунами в Азии — вам вроде не нужно никого специально тормошить.
То, о чём вы говорите, конечно, правда. Но говорит это, скорее, о системе и процессе заказа, о работе редактора. Понимаете, когда редактор выходит из кабинета и говорит, что хочет фильм о цунами — это очень лёгкий рабочий день. Прекрасный рабочий день, но так редко бывает. Звонит редактор и спрашивает: хотите сделать фильм о принцессе Диане? Я спрашиваю: а можно на выходных подумать? Когда предмет фильма широко известен, редактору не приходится ничего объяснять и режиссёр может незамедлительно начать думать.

Ваш фильм «Диана» — отличный пример. Интересно, как спустя десять лет после её гибели и гигантского числа фильмов можно вообще делать о ней кино? Чем тут заинтересовать зрителя?
Когда говорят: сделайте ещё один фильм про принцессу Диану, нужно очень долго думать, как сделать такое кино, чтобы зритель понял что-то новое. Узнал то, чего до этого ещё никто не знал. То же самое и с фильмом про цунами. Нужно придумать какое-то иное видение цунами, найти собственную точку отсчёта. Это был не мой фильм, не моя идея. Мне предложили. Взявшись за фильм, я начал читать про природные катастрофы. В общем, центральная мысль в «Цунами» не очень сложная — я хотел показать, как катастрофа уравнивает людей. Мальчик-рыбак из Индонезии равен миллионеру, у которого свой остров. Катастрофа доказывает, что все мы одинаковы, что все мы люди. Кажется, именно эта мысль помогла фильму завоевать аудиторию.
У «Цунами» были высокие рейтинги?
Да, его показали по BBC1, в вечерний прайм-тайм. Кроме того, у фильма были хорошие реклама и пресса. Но если бы BBC показал фильм про Диану, то у него, наверно, тоже были бы неплохие цифры.
А что случилось с «Дианой»?
Это долгая история. Её не решились пустить в эфир. Всё начиналось очень хорошо. Когда я брался за фильм, история Дианы была от меня далека. Для меня Диана была такой девушкой с обложки женского журнала, которая погибла десять лет назад… И вот спрашивают: «Хочешь сделать фильм про Диану?» А их уже штук сто таких фильмов. Нужен какой-то особенный подход. И я сел и посмотрел все эти фильмы, прочитал все книги о ней, которые мог найти… И обнаружил, что Диана ходила к учителю речи, который снимал их занятия на камеру. Я понял, что фильм может состояться, если я найду эти записи. У меня появилась возможность завладеть этой плёнкой. Правда, это стоило неправдоподобных денег. Но это было сокровище, потому что я смог сделать Диану рассказчиком её собственной истории. А как канал BBC был счастлив! — они продали фильм задолго до того, как он был сделан. Аудитория по всему миру должна была съесть его с потрохами. Одним фактом наличия этих плёнок я отодвинул от себя главную проблему — смог больше не думать об аудитории, сосредоточившись только на том, чтобы сделать хорошее кино.
Так почему фильм не показали?
Англия оказалась не готова. Фильмы о королевской семье не снимались в такой интонации. В фильме было ясно сказано, как подействовал на страну яд, источавшийся по поводу Дианы английским истеблишментом. Он разъедал Британию. Всё было как в шекспировской трагедии — все несчастья вдруг обрушились на Англию: СПИД, падёж скота, народные бунты. А причина кошмара — смертельная болезнь в самом сердце британского общества, в королевском доме. Мысль эта оказалась настолько пугающей, что… никто не смог взять на себя смелость выпустить фильм. Мы ходили на BBC от комитета к комитету. С собрания на собрание. И когда чиновники и редакторы видели кадры хроники, на которых восемнадцатилетний принц Чарльз облизывает губы… Начиналось. BBC не боится обидеть чиновников или правительство, но монархия, хотя сегодня она и не имеет реальной власти, священна. Монархия является важным социальным фактором, великой традицией, основой общества. У BBC до этого уже был повод осознать, насколько важна монархия для Англии. Они показывали какой-то фильм про королеву, и в нём была следующая сцена — Елизавету приезжает фотографировать Анни Лейбовиц, которая во время фотосъёмки просит: «Не могли бы вы снять корону, Ваше Величество». На что Елизавета, так получалось по монтажу, страшно злится и выходит из комнаты. Говорят, что на самом деле всё было не так, но эта безобидная вроде бы деталь стала шоком для ТВ. Был ужасный скандал, компания, сделавшая фильм, разорилась.
После этого BBC не хотел никого обижать. А у нас в финале есть момент, когда человек, семья которого служила монархии триста лет, говорит, сидя в Вестминстерском аббатстве, что для него со смертью Дианы умерла и идея монархии. Они действительно хотели показать фильм с такой сценой по главному каналу страны. Они хотели быть смелыми, но потом передумали.
Но моя камера меняет мир не сильнее, чем его меняют ваши вопросы.
«Диана» начинается со слов: «Это история о принце и принцессе…» Это страшная сказка?
Нет нет, это что-то вроде «Робина Гуда». Не сказка, а сказание, легенда. Что сегодня значит для нас Робин Гуд? Что мы видим в легенде о Робине Гуде? Что важно? Он жил в лесу, он грабил богатых и раздавал деньги бедным, у него был враг — шериф Ноттингема. То есть он был символом свободы английского народа от французской по происхождению монархии. Нам неважно, был ли у Робина Гуда секс с леди Мэрион. Не об этом легенда, не в этом смысл. Мы даже таким вопросом не задаёмся.
Что знала английская публика о Диане? Она знала и про неудачный брак, и про неверность. Но это её уже не интересовало. Фильм начинается словами: «Это история о принце и принцессе, которые жили в прекрасной зелёной стране…» Этим зачином мы настраиваем зрителей на определённый тип восприятия истории. Как в викторианских детских книгах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Когда-то эта зелёная прекрасная страна была домом Артуру и его рыцарям, но сегодня время рыцарства прошло. Это современная история. Мы делали фильм, который должен был отделить дом Виндзоров от тех далёких рыцарских времён. И BBC стоило насторожиться, услышав уже первую фразу. Важно и то, чьими устами произнесён этот текст. Голос за кадром в этом фильме принадлежит человеку, который не умеет говорить на оксфордском английском. Это просто парень из Шеффилда. Это голос рабочего класса. Акцент усиливает то недовольство, которое испытали низы общества. Его причина в том, что монархия, этот символ Британии, её символический центр, задавил несчастную девочку. Понимаете — девочку обидели. С точки зрения Робина Гуда Диана — жертва. В этой истории она потерпевшая. Поэтому фильму и не был дан ход.

«Диана» — один из немногих ваших фильмов, снятых в Британии. Вам вообще с каким материалом интереснее работать — со своим или с чужим? Знакомым или незнакомым?
Это действительно был первый за долгое время фильм, который я снимал в Англии. Я даже забыл, насколько приятно иметь дело со своей родной культурой, а не с чужой. Приятно работать с историей, которую все понимают, о которой говорят в магазинах и на улицах… Как будто это только вчера случилось.
История с Дианой — это очень болезненная для Британии тема. Разбираться с ней мог только британец, это понятно. Ни одна нация не захотела бы, чтобы с её трагедией разбирался чужак. Но как так вышло, что именно вы, англичанин, получили заказ на фильм, рассказывающий об одной из самых страшных трагедий вьетнамской войны? Почему вам доверили рассказать о великой американской травме? Речь идёт о фильме «Четыре часа в Милаи», в котором вы рассказываете всем (и Америке в том числе) о том, как американские солдаты, простые ребята, вырезали мирную вьетнамскую деревушку.
Так на тот момент сложились обстоятельства. Наверное, фильм о трагедии в Сонгми могли снять и в Америке (Милаи — лишь эпизод той страшной истории). В 1989 году Вьетнам был уже достаточно открытой страной, мы могли туда поехать. Поэтому родился план — провести съёмки во Вьетнаме, а затем поехать в Америку, чтобы разыскать непосредственных участников событий. А Америка — это Америка, там нам никто не чинил препятствий.
Интервью, вошедшие в фильм, поражают какой-то невероятной открытостью. Очевидно, что эти люди ничего не скрывают, хотя они совершали чудовищные поступки и понимают, что говорят на камеру. Вам не кажется, что им было легче с вами разговаривать, потому что вы британец, а не их соотечественник?
Возможно. В Америке я работал с парой журналистов, у которых был опыт в расследованиях. И мы действовали следующим образом: если они находили кого-то в Калифорнии или в Чикаго, неважно где, я тут же садился на самолёт (наш штаб был в Вашингтоне) и летел к найденному человеку. Мы шли прямо к ним домой, никому не звонили и не предупреждали. Стучались в дверь, спрашивали: «Вы Джон Смит?» Когда человек говорил «да», мы задавали следующий вопрос: «Вы были во Вьетнаме в 1968 году?» Человек снова отвечал: «Да». И тогда я говорил: «Я прилетел из Лондона только для того, чтобы с вами поговорить». Обычно это действовало. Нас приглашали внутрь. Мы проходили в гостиную, садились, начинали говорить. И иногда было слышно, как вдруг затихали звуки на кухне и к двери гостиной подходила жена и застывала в проёме, слушая, что рассказывает муж. Жёны часто ничего не знали о прошлом своих мужей.
Меня потрясло тогда одно открытие — передо мной сидели люди послевоенного поколения, мои ровесники. Ветераны послевоенного поколения. На полках у них стояли те же книги, что у меня, те же пластинки. На них была похожая одежда. Они были такими же, но они пережили невероятный кошмар, совершали чудовищные вещи.
Они, конечно, ждали, что когда-нибудь придёт кто-то и спросит, что же произошло в 1968 году. А в нашем распоряжении были тысячи документов, материалы расследования 1969 года, сотни свидетельств. Военное ведомство допрашивало всех, кто участвовал в этой бойне, собрало все заявления. И мы шли прямо по этим записям. Спрашивали: «Вы знаете Эндрю? Что вы делали с Эндрю в Милаи?». И они отвечали: «Да, мы были там вместе». «А вы помните, как Эндрю…»
Один из тех парней, стрелок на вертолёте, — он стал в Милаи героем, потому что остановил командира роты Келли, не позволил добивать раненых, — рассказывал мне за кружкой пива в баре о том, как служил стрелком, как жал на гашетку. Просто сказал как-то: «Я католик. Я знаю, что я там делал, и знаю, что пойду за это в ад. Ничто не сможет этого изменить».
Американские продюсеры после просмотра фильма в монтажной сказали: «Простите, но нам нужно остаться одним, не могли бы вы выйти?» Они пробыли в комнате около часа, прежде чем мы снова начали разговаривать.
Были люди, которые во время съёмок этого фильма отказывались говорить?
Да.
Много?
Нет. В роте было около двухсот человек, мы нашли половину. И только трое или четверо отказались с нами разговаривать. У нас была возможность выбирать.
Вы наверняка задумывались о моральной стороне вопроса. Вы стучите в дверь к человеку и спрашиваете: «Это ты убивал детей и насиловал женщин?»
Я не испытываю радости, расспрашивая людей об их трагедиях. Конечно, есть определённые границы, через которые нельзя переступать. Если я постучался к вам в дверь, задал вопрос, а вы вдруг начали рыдать, биться в истерике, я вряд ли буду дальше вас терзать вопросами. Я точно не стану использовать ваши слова, если пойму, что вы сказали их в минуту слабости. Я стараюсь понять, почему человек сказал мне то, что он сказал. Пытаюсь объяснить, что я чувствую, откуда я, что собираюсь снимать, и обычно после этого люди находят возможность со мной поговорить. Это не трюк и не провокация. Я часто показываю фильмы своим героям перед премьерой. Не раскрываю секреты, выданные в случайных интервью. Но такие фильмы, как «Милаи» или, скажем, «Цунами», касаются тем, которые волнуют человечество уже тысячи лет. Человеческое любопытство тут неизбежно. И единственная проблема для меня состоит в том, что моё любопытство вознаграждено не только ответами, но и деньгами, которые платит телекомпания.
Есть такая книга «Журналист и убийца», я всем её рекомендую — так вот, она начинается словами: «Каждый журналист, который понимает, что он делает, и достаточно умён, чтобы не закрывать на это глаза, знает, что его действия невозможно оправдать с моральной точки зрения». Я стараюсь об этом помнить.
Банальное кажется мне ключом к жизни. Фильмы ведь не снимаются за столом.
Когда вы приезжаете куда-то с камерой, вы чувствуете, что вы изменили реальность?
Конечно. Но моя камера меняет мир не сильнее, чем его меняют ваши вопросы.
В чём принципиальное отличие взгляда «своего» от взгляда чужака?
В чужой стране ты всегда чужак, вглядывающийся в непонятное пространство. Я двадцать лет женат на русской, и до сих пор по чисто культурным причинам часто не понимаю её и некоторые ситуации. Я читаю русскую литературу, погружаюсь в русскую историю, но не сказал бы, что это сильно помогает. Снимая за границей, я стараюсь как можно больше работать с местными. Помню, какое странное впечатление я произвёл на Арановича, когда впервые приехал в Россию, чтобы делать «Петербург!». Я объяснял ему, что хотел бы просто ходить по городу, впитывая словно губка всё, что увижу и почувствую. Идея показалась ему очень странной. А мне хотелось вслушиваться в разговоры, беседовать с людьми, наблюдать.
К чему должны были привести эти наблюдения?
Мне хотелось понять, что может заинтересовать в России мою публику. Что я должен показать? Оказалось, что когда фильм впервые показали по телевизору, зрители были просто очарованы девушкой, которая стирала руками бельё в тазу. Это было какое-то небывалое для английской аудитории сообщение. Она такая красивая, нежная, мечтает о стиральной машине. Это было так просто понять. В тот момент русские всё ещё были для британцев вроде чудищ холодной войны. У таких людей не могло быть проблем со стиркой или с соседями. Что мы знали о России? Мы же видели только репортажи о том, какие у вас огромные ракеты. Какой там Чехов! Только Андропов, Брежнев, состояние экономики, договоры, гонка вооружений…
Но любопытно, что сфера интересов публики всегда меняется. Сегодня, снимая продолжение «Петербурга!», вы уже не сможете показать женщину и стиральную машину. Проехали. Нужно найти какой-то другой способ смотреть на происходящее. Это куда более сложная задача.
Часто в попытке найти общий язык, достичь взаимопонимания со зрителем приходится начинать именно со стереотипов…
Да. Можно начинать с того, что показывают в телевизоре. Мы, например, так и поступили в фильме «Однажды в Иране». Там был Буш на телеэкране, а закадровый голос говорил: «Говорят, что Америка собирается бомбить Иран». Иногда кажется, что новости только для того и существуют, чтобы иностранец, посмотревший их, а затем приехавший в чужую страну, по-настоящему ужаснулся: как же так случилось, что он ничего этого не знал?! Новости не расскажут вам, что думают люди, которые ходят по улицам. Как они чувствуют, кого и как любят. Цель фильма — наладить иную, не официозную коммуникацию. Понять нечто большее. Показать нюансы и их взаимодействие.
В «Иране» редактор-заказчик Ангус МакКуин был просто в отчаяньи оттого, что аудитории будет не за что зацепиться в истории о паломниках-мусульманах, которые едут из Тегерана в Карбалу. Поэтому мы и начали с Буша, чтобы приблизить историю к зрителю.
Вам не кажется, что банальность может быть не просто поводом, стартом для истории, но является первоосновой искусства? Как в большой литературе, где за гигантским многоплановым романом может стоять очень простая история о простых вещах. И без банальности, без разговора о простых вещах искусство вообще невозможно? Например, «Анна Каренина» — история банального адюльтера, любовного треугольника. Простая вещь из бабушкиного сундука. Чтобы превратиться в великое искусство, она проходит огромный путь, читатель вместе с автором и героями путешествует по вертикали и по горизонтали. Но этот путь, огромный, как вселенная, возвращается к началу. К банальному.
Для меня банальность действительно часто становится точкой отсчёта в разговоре. Я стараюсь использовать какие-то общие вещи, чтобы потом от них уйти. С клише, словно с линейкой, люди подходят к неизвестному предмету, чтобы изучить его. В фильме часто идёшь от клише, но важно объяснить, что за этим клише стоит. Банальности — это условие существования человеческой жизни. За каждой из них стоит сила. Это джинн, который заперт в лампе. Но нужно только немного потереть, и джинн покажет, как он работает.
Банальное кажется мне ключом к жизни. Фильмы ведь не снимаются за столом. Их не делают сидя. Фильм — это процесс проникновения в состояние людей, которые пережили войну, в состояние людей, семью которых смыло тайфуном, в состояние людей, которые прожили всю свою жизнь в стране, которая определялась монархической символикой, и были обмануты этой символикой. Я наблюдаю за странным танцем событий, который делает человека человеком. И смысл очевидной банальности может состоять в том, чтобы двинуться от неё в какую-то другую сторону.
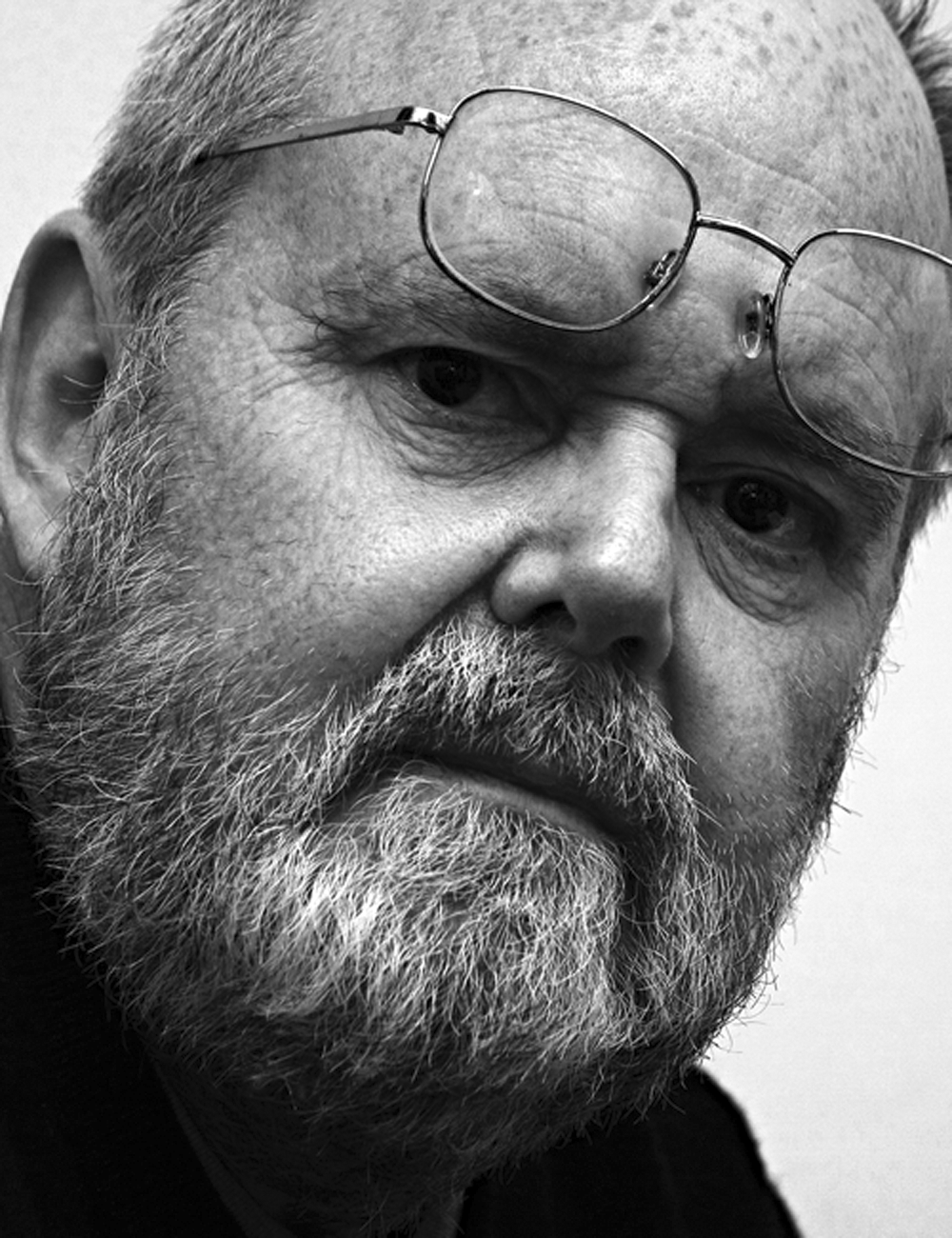
Кажется, что у нас в фильмах именно точек отсчёта не хватает. Может быть, их просто нет в современной русской жизни…
Не может быть такого. Мне кажется, в России очень много великолепных историй для документального кино, такого, как в Британии. Если бы британские документалисты жили и работали в России как дома, то они бы снимали кино о том, кто убивает журналистов, снимали бы фильм о «Газпроме», снимали бы о том, сколько денег у Путина. У вас есть о чём снимать. Другое дело, что фильмы эти не снимаются, потому что всем жить хочется. Но существуют разные способы сказать то, что ты хочешь сказать.
Я очень хорошо представляю себе фильм о работе комиссии, которая соревновалась с Британией за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Назовите причину, по которой его нельзя было бы снять в России? Эта история могла бы стать маленькой моделью русской жизни. Потенциально у такого фильма могли бы быть миллионы зрителей.
Вы всё-таки судите как британец, который привык к тому, что у документального кино гигантская аудитория.
Да, конечно, мы счастливцы — у нас есть аудитория, которая смотрит документальное кино уже пятьдесят лет подряд. Сейчас идут процессы, из-за которых эта аудитория распыляется, транжирится вещателями, но наша стартовая позиция, конечно, лучше вашей. Вам просто нужно задать себе вопрос — почему публика заинтересована в документальном кино? Что такого можно в нем увидеть? Есть места, куда игровому кино не попасть. Вещи, о которых ему не рассказать. Именно поэтому на документальные фильмы столь живо реагируют. Когда документальное кино становится частью телекультуры, то его начинают обсуждать в пабах, а это дорогого стоит. И если вы хотите, чтобы в России росла аудитория, заинтересованная в документалистике, то нужно с ней работать, нужно ее выращивать. Надо брать простые темы, говорить об общедоступных вещах и предметах, создавая неожиданные фильмы, которые будут смотреть.
Читайте также
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой







