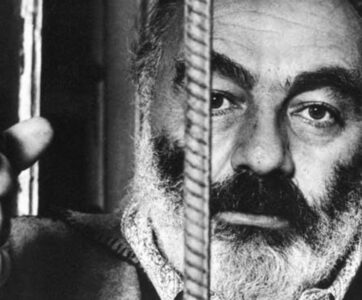«Антон тут рядом». Из дневников
Чтение после просмотра «Особенных». Любовь Аркус рассказывает о центре «Антон тут рядом». В чем идеология центра и почему слово «благотворительность» не всегда уместно?
Почему меня коробит и корежит от слова «благотворительность»? Пытаюсь выудить из памяти, из культурных контекстов неприятные ассоциации. Дамочки-бездельницы, устраивающие от скуки благотворительные балы. Пухлая рука в кольцах, протянутая для поцелуя сироте в приюте. Во всем виноваты Чехов, Честертон, Бунюэль — главные пересмешники пошлости, самодовольства, спесивого превосходства по отношению к тем, кто по разным причинам оказался за чертой. Какое отношение это имеет к Чулпан, к Маше Островской, к Лене Альшанской, к Ксюше Раппопорт, к моим Грачевой и Дуне Смирновой, к покойным Вере Миллионщиковой, Галине Чаликовой, Александре Ленартович — пионерам движения? Да никакого вообще.
Но они и не благотворители, и не филантропы. По сути, они правозащитники.

Все они занимаются правами человека — на лечение, на паллиативную медицину, на избавление от страданий, на смерть в человеческих условиях, на жизнь в человеческих условиях, на семью вместо детдома, на образование, на работу.
Это серьезный разворот в правозащитной деятельности — от политики к человеку.
Не к «теории малых дел», а к человеку. Конечно, перевязочные материалы для «детей-бабочек», место в школе для ребенка с аутизмом, препараты после трансплантации костного мозга (упаковка на вес золота и по квоте не положена), пропавший в лесу дедушка с Альцгеймером, младенец в Доме ребенка, которого берут на руки ровно два раза в день, а так ори-заорись, — это все «малые дела». По сравнению с желанием «менять мир к лучшему». Мир, ни больше ни меньше. И куда менять его будем? На что? XXI век на дворе, сограждане. Уже второе десятилетие за вторую половину перевалило.
Это становление гражданского общества в условиях невозможности и бессмысленности политической активности.
Эта правозащитная деятельность начисто лишена обличающей риторики.
Вместо вопроса «Кто виноват?» ключевым здесь выступает вопрос «Что делать?».
Нет борьбы с государством — не из страха перед ним, а потому что на него больше нет упования. А если нет упования, то нет и вопрошания, то нет и протеста.

***
Грачик придумал этот слоган «Помогать легко!». И мне всегда казалось, что он придуман здоровско. Ну правда, зачем людей насильно вгонять в сострадание, в чувство вины и неизбежно следующую за этим всем агрессию? Неумно и непродуктивно. Ты до чего-то в своей жизни дошел, а человек, к примеру, еще нет. Дай ему тихонечко шанс сделать это легко и постепенно. И все так. И все же что-то не так. Для тех, кто пришел к разумному решению оказывать регулярно посильную помощь (пусть сто рублей), и на этом успокоился — это верно и работает. Но для тех, кто начинает врубаться всерьез под этим девизом, получается ерунда. Человек встречается с тем, что это, на самом деле, если всерьез, то неправда. Помогать всерьез — нелегко. Если ты не останешься благоразумно на краю опушки этого леса, а углубишься хоть на метр, то через какое-то время поймешь: вход в этот лес — бесплатный. Выхода из него — нет.
***
Петрановская говорит, что внутри каждого благотворителя живет испуганный ребенок, у которого душа болит. Возможно. И скорее всего. Это знание очень полезно для всех, кто приходит в благотворительность или в волонтеры. Это знание — хорошее лекарство от одной из самых неприятных на свете хворей, тщеславия добродетели. Ты приходишь в хоспис, в больницу, в детский дом, в интернат, в дом престарелых, к больным, сиротам, аутистам — не потому, что ты такой хороший. А потому, что твой внутренний ребенок нуждается в этом. Он хочет утолить свою печаль, избавиться от страха, вернуться к себе самому, утешить себя маленького…
Но все эти внутренние дети испуганы или травмированы по-разному, а потому каждый выбирает себе свое. Я дважды очень близко была при кончине близких людей от онкологии и поражаюсь мужеству людей, которые каждый день работают с этим. Я бы не смогла. А Ленке Грачевой, скорее всего, было бы непросто с моими аутистами. Она «ненормально нормальна» во всех своих проявлениях. Очень гармонична. Не человек, а воплощенная «Капитанская дочка» Пушкина. Я бы ей завидовала, если бы так ее не любила. Нельзя завидовать тем, кого любишь. Теми, кого любишь, только восхищаешься. И сокрушаешься иногда: ну почему у меня не так?
Грач (Лена Грачева) не боится ни своих, ни чужих страданий. Может быть, и боится. Но не уклоняется. Живет прямо в пекле. В общем, с тех пор как началась эпоха «Антона», я тоже примерно в гуще. Но страдания ребят и родителей мне знакомы и привычны с детства — пусть отраженно, не впрямую, но знакомы. Инаковость и отвергнутость.

***
Нельзя сказать, что мое детство было легким, о нет! А все-таки счастья в нем было столько, что оно и по сей день мое главное топливо, моя память о чувствах и о предчувствиях смыслов. Сейчас я думаю, что главная работа, которую делает человек, — это бесконечные дополнения и переуточнения картины мира. Ты живешь и думаешь, что ключевые слова здесь — «возраст» и «опыт». Но однажды обнаруживаешь, что весь строительный материал для этой своей картины мира ты получил уже тогда.
В моем детстве была бабушка Хайка, дальняя родственница, она сидела на диванчике, окруженная думками (маленькими подушками с гобеленовыми или бархатными чехлами), раскачивалась и чаще всего молчала. Иногда подзывала меня к себе, что-то бормотала на идиш, а потом, сверля меня испуганными глазками, спрашивала на ухо по-русски: «Ты не знаешь, где я? Я должна быть совсем в другом месте». Взрослые говорили, что она от старости «разум потеряла».
Тетя Вера, с молодым красивым лицом и белыми как снег волосами, причесанными на пробор и убранными в тяжелый узел, работала на молочной кухне, была надежной опорой всей своей родне, но иногда не к месту и невпопад заливалась странным тихим смехом, никак не гармонирующим с ее обликом и повадкой. Тогда все замолкали и выходили из комнаты. Бабушка говорила, что Вера поседела в двадцать лет, когда узнала, что всю ее семью закопали живьем под Волочиском, и тогда же она стала «странной».
Наша соседка, пани Гуся, высокая, рыжая, в длинном войлочном пальто, белом с черными «крапочками», по вечерам танцующей походкой бродила по длинному балкону второго этажа, напевая по-польски и пританцовывая, то на цыпочках, то отбивая носком о щиколотку ритм. «Сбрендила пани Гуся», шептались на балконах выше и ниже, муж и дети уехали в Польшу к родне, оставили ее одну.
Молочник приходил к бабушке с большим бидоном молока, и с несколькими поменьше — сметана, масло, творог. Я не помню его имени, и лица его я не помню, а помню только ярко-голубые глаза на совсем сморщенном лице. Они были круглыми и пронзительными, а на голове у него был пух, который казался светящимся венчиком, когда он садился у солнечного нашего кухонного окна. Этот молочник благоговел перед бабушкой, но выражал свое отношение исключительно мимикой и жестами. Говорил же он (вернее, бормотал) без остановки и всегда одно и то же: про то, как в город входили то «советы», то «хлопцi з лiсу», все отбирали и убивали. Рассказ шел по крошечному кругу и продолжался, пока он уходил не прощаясь и брел по двору, скрываясь за поворотом. Бабушка качала головой и строго покупала только у «малахольного».

Это был Львов шестидесятых и семидесятых годов, «сбрендивший» и «спятивший» от многочисленных потрясений город, где каждый второй взрослый житель был жертвой либо Холокоста, либо сталинских репрессий 39-го (поляки) и 46-го (поляки и украинцы), либо террора бандеровских партизан, либо энкавэдэшных зачисток.
Мое детство было переполнено «спятившими», «сбрендившими», «малахольными», «странными» людьми. А еще — «полоумными», «умалишенными», «ненормальными». Ненормальным ребенком очень часто называли и меня: девочку с ключом на шее, «с которой запрещали дружить» другим девочкам, которые «из приличных семей». Наша семья в какой-то момент стала «неприличная»: после смерти папы и бабушки она состояла из меня, «ненормального» ребенка, и моей доброй, красивой, но абсолютно непутевой (с точки зрения «нормы») мамы.
У девочки с ключом на шее было «все не так, как у других девочек». Посмотри, как ведут себя другие девочки. Почему ты не можешь быть такой, как другие девочки? Ты слишком громко смеешься (плачешь). Ты приходишь в чужой дом без приглашения. Ты не уходишь, хотя давно пора. Ты уходишь с урока, если тебе неинтересно или ты не понимаешь, о чем речь. Ты не умеешь себя вести. Ты катишься по наклонной плоскости. Зачем ты столько читаешь, и не по программе, если тебе «натягивают» тройки по математике и физике? Зачем тебе знать, что такое смерть, ты еще уроки не сделала? Зачем тебе нужно, чтобы тебя любили — любовь надо еще заслужить. Что тут плакать? Учись хорошо и не пачкай одежду, вот и заслужишь уважение коллектива. С тобой не разрешают дружить, потому что ты окажешь плохое влияние. Когда ты вырастешь, ты попадешь в дурную компанию и пропадешь для нормальных людей.

…Когда я выросла, то поступила во ВГИК, хотя даже в областной пединститут попасть не было никаких шансов.
…Во мне всегда живет эта память. Когда я вижу затравленные глаза родителей, приводящих ребят в Центр («Я знаю, вы, конечно же, нас не возьмете»), я вспоминаю мою бедную, добрую маму, бесконечно выслушивающую то велеречивые, то гневные нотации про «не такого как все ребенка».
***
Я всегда подозревала, что между психиатрией как социальным институтом и буржуазностью есть какая-то связь. Прочитала Мишеля Фуко. И что же? Первые психиатрические больницы действительно возникли в пору становления капитализма, и их возникновение было обусловлено сугубо экономическими причинами. Нужно было отделить управляемую и предсказуемую рабочую силу от тех, кто не мог считаться таковою. Тогда же возникло понятие «норма».
Фуко: «Разум заставил безумие умолкнуть и лишил его возможности оспаривать социальные нормы и апеллировать к истине».
Из книги «Антипсихиатрия»: «Фуко раскрыл понятие безумия как социальную условность, навязывающую такую дефиницию нормальности, которая создавалась и используется в интересах власти».

Я не врач, не специалист и не берусь судить о медицинских материях.
Мне абсолютно безразличны диагнозы ребят, которые до сих пор числятся в карточках под загадочными шифрами, и даже родители (родители!) не имеют права знать, что под этими шифрами кроется. Для меня у всех у них диагноз один: отверженные. Отверженные, потому что отличаются от других, отклоняются от «нормы». Но Боже мой, эта мифическая «норма» — что это за зверь такой? Любому мыслящему и чувствующему человеку очевидно, что полноценное душевное здоровье может быть только у самых примитивных представителей человеческого рода, вопрос только в способности скрывать, приспосабливаться, адаптироваться, мимикрировать. Делать вид. Мы отличаемся от людей с аутизмом не своим здоровьем противу их болезни, а тем только, что обзавелись социальной оболочкой. Они не могут — в этом проблема. Но под нашей социальной оболочкой скрываются все те же дефициты, те же страхи, та же жажда любви и защиты — только у них не сокрытые сущности, голые сущности, души на ножках, сокровенные люди.
В них можно смотреться, как в зеркало. Больше, чем в зеркало.
***
Для чего создан Центр? Мы пишем в своих презентациях, концепциях, прошениях, докладах: «социальная абилитация, обучение, коммуникативные и бытовые навыки, творчество, спорт, досуг». И это все чистая правда. Мы стараемся изо всех сил, ошибаемся, падаем, идем дальше, в чем-то достигаем огромных успехов, в чем-то обнаруживаем тупик и ищем обходные пути. Но на самом деле мы просто создаем для ребят пространство для полноценной жизни. Выгородили на Троицкой площади, дом 1 цокольные четыреста квадратных метров и создали такое пространство, где они учатся, работают, дружат, делают успехи, терпят поражение, стараются, вредничают, прикладывают усилия, ревнуют, соперничают… Из этого пространства мы делаем вылазки в город, в пригороды, в летние лагеря. Пока держимся все вместе, постепенно обучая по отдельности каждого передвигаться по жизни без проводника, или хотя бы отчасти, понемногу.
Все остальное — коммуникация, ремесло, творчество — способы достижения цели и создание жизненного пространства.
По сути, залог успеха с каждым в отдельности — это создать у человека такое самоощущение: «Я не все умею и не все понимаю, и со многим не могу справиться, но меня можно любить и меня можно уважать».
Это самоощущение могут создать только наши сотрудники, даже в самые острые кризисные ситуации их посыл к ребятам может быть только такой: «Не все, что ты делаешь, мне нравится, но я люблю тебя, и ты можешь на это полагаться».
А потому основа основ Центра — это сотрудники: тьюторы, мастера, педагоги.
Что должен уметь человек, который работает в Центре? Он должен уметь чувствовать. Уметь быть открытым к человеку, давать ему возможность войти с собой в контакт и научить его этому. Уметь каждую минуту быть настоящим. Контролировать не свою вежливость, а свою искренность. В современном мире это самая тяжелая задача. Потому что мы 99 % нашего времени совсем не то, что мы есть. Это условие нашего выживания. Так вот, чтобы создавать им эту социальную оболочку, нужно уметь на время контакта отказаться от своей.

Иногда мне кажется, что Центр ангелы несут. Без людей, которые там работают (многие со дня основания) он был бы еще более невозможен, чем без жертвователей.
Шура Тимофеевский написал в фейсбуке: «В Новой Зеландии рухнул самолет. Никто не погиб, даже не пострадал. Всем пассажирам и экипажу удалось спастись. Всего на борту было тринадцать человек — шесть пассажиров, шесть членов экипажа и пилот. Когда началось крушение, люди на парашютах по двое вылетали из самолета — один пассажир плюс один член экипажа. Последним, как и полагается, был пилот. Я всегда подозревал, что экзистенциальная пара вовсе не мальчик плюс девочка или не мальчик плюс мальчик и девочка плюс девочка, а именно пассажир плюс член экипажа. Есть в этой паре бытийная поступь».
Вот это и есть принцип центра «Антон тут рядом» — пассажир плюс член экипажа.