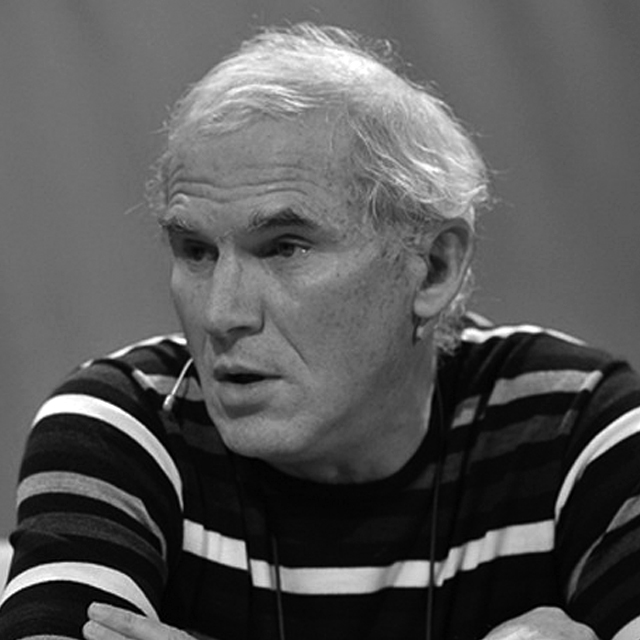Трупы преткновения
Новый фильм Алексея Балабанова вызвал необычайное воодушевление ряда критиков, объявивших его важнейшим явлением российского кино нового времени, выдающимся событием в мировом кино. Таких восторгов в нашем цеху не было со времен «Покаяния» Тенгиза Абуладзе, а до этого — с «Красных колоколов» Сергея Бондарчука.
Вместе с тем другие рецензенты, тоже признающие талант Балабанова и весьма критично относящиеся к былой и нынешней России, не нашли в «Грузе 200» больших художественных достоинств и не увидели в нем серьезной критики сущего: «Кинолистовка, сварганенная на скорую руку методами и формами пропагандистского искусства тоталитарных режимов ХХ века» (Сергей Кудрявцев), «фильм про советскую жизнь, выдержанный в духе американских ужастиков класса B» (Валерий Кичин), «целиком и сугубо риторическое произведение, погрязшее в прямолинейных идеологических жестах» (некто Влад Дракула).
Отбросим негативно-оценочные формулировки типа «неряшливость», «подтасовка» и «лживость» и поставим вопрос иначе: верно ли, что режиссер отходит от реалий позднесоветской эпохи? Думаю, всерьез отрицать это невозможно. Остается признать, что «Груз 200», внешне похожий на реалистическое изображение исторической действительности, при более пристальном взгляде представляется или небрежным, или построенным по иному, нереалистическому принципу.
На мой взгляд, сходство «Груза 200» с пропагандистскими фильмами (которые снимались главным образом в тоталитарных странах, но не только там) неоспоримо. «Принцип» идеологической пропаганды, как известно, состоит в том, что цель оправдывает средства, то есть он, по сути, беспринципен. Но в таком случае сторонники фильма не имеют права требовать от его противников «судить художника по законам, им самим над собою поставленным» — ведь он признает над собой законы только де-юре, но не де-факто.

Однако так ли принципиален для режиссера отход от реализма? Что мешало Балабанову приблизить фильм к реальности, сохранив все показанные в нем события (кроме разве что чудесного обращения в веру преподавателя атеизма в 1984 году), всю метафоричность и весь обличительный пафос, который приписали фильму его апологеты? По сути — ничто. Представьте себе на минуту, что начальник милиции похищает девчонку под покровом ночи, а не на рассвете, не везет через весь город на глазах недремлющих пенсионеров, а прячет в более безопасном и уединенном месте, чем его городская квартира, — в месте, где ее можно держать годами. Вообразите, что он незаметно похищает бомжа и привозит туда же. Что он, ненароком заполучив гроб с телом «афганца» и улучив момент, извлекает труп, кладет вместо него хоть бревно в тряпках — и далее по балабановскому тексту. Чем это ослабило бы картину? Ровно ничем. Более того, таким же образом ее можно было бы усилить, хоть пунктиром показав халтурное следствие, суд над невиновным и его расстрел, — была бы настоящая оплеуха советской судебной системе. Любая реалистическая деталь насытила бы фильм убийственными смыслами, вместо которых у Балабанова — шум в канале связи.
Разумеется, никакая степень реализма не сделала бы сторонниками «Груза 200» коммунистов и любителей соцреализма — одни кляли бы режиссера за то, что не отразил на экране настоящих советских людей и достижения социалистического строя, другие — за социальный пессимизм. Но с аргументами этой публики легко разделаться одним движением, переадресовав их претензии Гоголю и Салтыкову-Щедрину, в произведениях которых нет ни положительных героев царского времени, ни радостных предчувствий светлого будущего, а когда встречаются (во втором томе «Мертвых душ») — хоть туши свет.
С другой стороны, Балабанов мог бы вовсе отказаться от реализма и снять абсурдистский фильм, чье семантическое поле гораздо более многозначно, чем у реалистического. Человеку, который начинал как киноинтерпретатор Беккета и Кафки, ничто не препятствовало так поступить.
Почему же он не сделал того, что сделал бы на его месте любой профессиональный писатель или драматург? Скорее всего, потому, что его волновала не критика советского строя, не критика постсоветского и не художественная прогностика, а нечто другое. Я не сторонник теории, которая, по словам Юнга, сводит художественные произведения к «простым психологическим симптомам» авторских комплексов и девиаций, поэтому скажу иначе: вероятно, Балабанова интересуют «грязные» аффекты и их очищение через веру. А тут, конечно, не до реальности, тут сон художника, неизбежно рождающий монстров.
Можно ли этих чудовищ квалифицировать как прозрения и предчувствия? Не всегда. Зигфрид Кракауэр, научивший критику символической интерпретации фильмов, имел основания увидеть в сновидческих картинах немецких экспрессионистов предчувствие нацизма, но смешон был бы тот, кто стал бы делать социально-политические прогнозы на основании пугалок Марио Бавы, Дарио Ардженто или Джона Карпентера, хотя каждый из них не менее талантлив, чем Балабанов.
Как бы то ни было, приходится констатировать существование вполне определенных эстетических разногласий между двумя «лагерями» толкователей фильма. Тех, которые не очень расходятся в социально-политической оценке советского прошлого и в эстетических оценках большинства других фильмов, но не могут сойтись в отношении именно к этому жанру, где Балабанов, конечно, не одинок: см. хотя бы «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова и «Нелегала» Бориса Фрумина.

Главная особенность данного жанра — сознательная или бессознательная мимикрия под реализм при произвольном смешении реалистических и антиреалистических моментов и отсутствии меток, указывающих на смену кинематографической условности. Это почти как в фэнтэзи-хоррорах: с виду человек, а на самом деле какая-то нечисть в человеческой оболочке. Такая маскировка под реалистический кинематограф опасна тем, что зрители, не жившие в советское время и склонные к презумпции доверия художнику, верят в историческую достоверность фильма и получают превратные представления о прошлом.
Вторая жанровая особенность — депсихологизация основных действующих лиц. Так, в «Грузе 200» крайняя неосторожность действий насильника не соответствует ни профессии сыщика, ни положению начальника милиции, ни хитрости, свойственной маньякам, а крещение в 1984 году записного атеиста не мотивировано ни внутренними изменениями, ни переменой политической погоды. То же относится и к жениху дочери военкома, который, очевидно, связался с ней по расчету, но при этом неизвестно, почему ведет себя крайне нерасчетливо. В то же время полубезумная старуха, пялящаяся в телевизор, и весьма реалистична, и весьма символична.
Дело, однако, в том, что символический подтекст «Груза 200» не увязан с его текстом. И критика некритически пользуется символической логикой, допуская грубейшие паралогизмы. Иначе и не могло быть. Извлекать из балабановского фильма оценку ситуации в СССР 80-х годов или в нынешней России — почти то же самое, что из схематичных рисунков, применяемых психиатрами в качестве апперцептивных текстов. Тем более странно говорить о его прогностическом значении: если бы «Груз 200» появился в 1987 году, это был бы гениальный прогноз, а сейчас — пророчество задним числом.
Лично я думаю, что наиболее активные апологеты «Груза 200» наполняют картину собственными аффектами, дабы публично высказаться по общественно-политическим вопросам, так что фильм исполняет роль прикрытия. «Это он сказал, а мы только растолковали» — вот их позиция. Нет, коллеги, это сказали вы, а не он. Поэтому я, отчасти присоединяясь к вашим пессимистическим оценкам прошлого и настоящего, советую смотреть «Груз 200» либо как обыкновенную пугалку, либо как черную комедию, либо как тест на реализм: «Найди в картине десять ошибок». Только в этих случаях к Балабанову — никаких претензий.
Читайте также
-
Lucky 31 Astuces Simples Pour Jeux En Ligne
-
Dragon Emperor Online Pokies
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана
-
Берлин-2026 — «Моя жена плачет» Ангелы Шанелек
-
Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни