Адрес неизвестен
О капитализме, «машинах желания» и протестном потенциале общества с Михаилом Ямпольским беседуют Любовь Аркус и Алексей Гусев.
СЕАНС – 29/30
…Социальный протест возникает лишь тогда, когда есть давление социальных структур, то есть давление «сверху». Когда эти структуры носят хотя бы дисциплинарный характер. А мы сейчас присутствуем при исчезновении таких структур. Точнее, при их активной мутации в то, что называется «машиной желания». Это происходит во всем мире и на всех уровнях общества. Речь идет о такой системе, которая сама вырабатывает желания у человека, попавшего в нее, — желания, которых у него не было или о которых он сам не подозревал. Что, впрочем, одно и то же. Раньше «машины желания» относились преимущественно к сфере торговли, образцовый пример — магазин. Сейчас такими «машинами» становятся все социальные структуры. Я, например, работаю в университете. Казалось бы, образовательное учреждение, совершенный образчик дисциплинарной системы. Образование всегда строилось на ней. Нужно заставить ребенка учиться. Теперь же считается, что школа должна быть интересной. Как говорят в Америке, «must be fun». Университеты вкладывают деньги не в научные разработки, а в постройки бассейнов. Университет подается как развлекательный центр. О получении знаний речь не идет.

— Но ведь наряду с этим существуют армия, полиция…
— А вы видели рекламу американской армии? «Вы сможете поездить по всему миру, вы увидите то, что никто не увидит, вас ждет масса удовольствий»… То же самое, точь-в-точь. И это отнюдь не только в Америке. В Европе ведь государственные формы еще мягче. Государство должно всем доставить удовольствие, обеспечить хороший образ жизни. Те жалкие остатки репрессивных структур, которые еще сохраняются, все время служат поводом для извинений: дескать, не можем мы совсем отказаться от полиции и тюрем. Приходится, извините уж. Мы зато в тюрьмах такую жизнь приятную организуем, еще сами попроситесь… До абсурда доходит. И все настолько инкорпорированы в эти «машины желания», которые их окружают со всех сторон, ежедневно, ежечасно, что им совершенно не с чем бороться. Государство все меньше ассоциируется с дисциплиной и давлением, «машин желания» все больше, и люди совершенно не знают, а чему же им, собственно, надо противостоять. Собственным желаниям? А никакой другой реальности, кроме них, не осталось. Мир словно расплывается.

Общество превращается в некое магматическое варево.
— Разве нельзя протестовать против самой этой расплывчатости?
— А как против нее протестовать? Кому этот протест адресовать? Если перед тобой стоит стена, ты можешь на нее лезть, чтобы увидеть то, что за ней, или захотеть ее снести, или хотя бы написать на ней призыв к действию. Но стены-то как раз и нет! Точнее, есть, но — мягкая, зыбкая, аморфная… Ни влезть, ни снести, ни написать. Общество превращается в некое магматическое варево. Теряя дисциплинарность, оно теряет саму структурированность. Ты уже ни к какому определенному сегменту общества не приписан, ты сам организуешь сообщества по своему вкусу, появляются какие-то связи… Затем у тебя вкус меняется, или тебе просто надоело, сообщество другое, связи меняются…
— Как в Интернете?
Масяня смеётся
— Интернет — это вообще идеальный образ происходящего в мире. Гигантская интеграционная система, создающая возможность бесконечной всеобщей коммуникации. Постоянно всплывают какие-то темы, мотивы, происходит мгновенная кристаллизация — и вновь все возвращается в хаос. А одинокий человек сидит перед дурацкой коробкой под названием «компьютер» и протягивает нити коммуникаций к этому бездонному и бескрайнему Солярису. В котором ничего устойчивого не возникает и возникнуть не может. Возникло и исчезло, как не было. Фикция реальности, фикция структуры, фикция коммуникации. Все «как бы». Словно в фильме «Человек с киноаппаратом». Мне всегда казалось, что Вертов предвосхитил Интернет. В этом фильме очень много вещей, снятых крупным планом, все время идут какие-то процессы производства… Но там нет ни одной настоящей вещи, которая превращается в фетиш — одна сплошная коммуникация всего со всем. Все всем подменяется. Все всем метафоризируется. Вещь появляется из этого хаоса и тут же в нем растворяется. В этом коренное отличие Вертова от таких режиссеров-фетишистов, как Эйзенштейн и в еще большей степени — Кулешов.
Система начала «плыть», в ней все связано и все автономно, ничего нельзя дифференцировать — ни полицию от мафии, ни политиков от бизнесменов.
— Давайте все же вернемся к современным социальным протестам. Вы говорите, что их некому адресовать, что их никак не проявить. «Нет стены». Получается, все довольны?
— Против этой текучести, конечно, рано или поздно поднимается внутренний бунт. Только и слышно: «я хочу быть радикальным, я не хочу в этом дерьме участвовать, я хочу наконец обрести какую-то реальность»… Но все это там же и заканчивается, где началось. Сражаться-то не с кем. А для того чтобы бунт оформился, его объект все-таки должен быть конкретен, а не опираться на смутные внутренние ощущения. К тому же механизм «машины желания» тут как тут; и я уверяю вас, что и революция в значительной степени становится именно такой машиной. Ты самозабвенно предашься делу революции, наденешь майку с Че Геварой, начнешь что-нибудь ломать, почувствуешь себя радикалом — а по телевизору тем временем пойдет реклама: «вступайте в ряды революционеров и получите удовольствие».
— Ну, положим, терроризм никто не рекламирует. Разве это не форма протеста?
— В каком-то смысле да. Но в ином. Что такое современный террорист? Он бросает бомбу не в кафе, не в автобус — он бросает бомбу в информационное поле. Он трансформирует его с помощью терракта, привлекает к себе внимание, вызывает состояние паники, разрушает какие-то связи и так далее. Это протест — но абсолютно негативный. Он ничего не утверждает, ни к чему не призывает. Его смысл полностью заключен в нем самом: ударить по системе коммуникаций и внести в нее хаос. Кто такой Бен Ладен, чего он хочет? Совершенно непонятно. Понятно одно: он создает эту ударную волну.

— А как же террористы начала XX века? Они разве не хотели, чтобы о них узнали?
— Конечно, терроризм без информации вообще не существует. Какой смысл приходить к кому-то на квартиру и втихомолку убивать его, если я собираюсь выдвинуть требования, а не просто пошарить в ящиках бюро? Но те, так сказать, «классические» террористы боролись именно с системой, со сложной, осмысленной дисциплинарной иерархией — полициями, тюрьмами, каторгами, табелью о рангах, чинами, церковью и т. д. Они считали эту систему уязвимой именно за счет ее осмысленности, и думали, что можно ее раскроить, если точно нанести удар в некий смыслообразующий центр. Сегодня все наоборот: ни одна система не имеет никакого смысла и никаких подобных «центров». Неслучайно ведь нынешние террористы если и выдвигают какие-то требования, то именно что бессмысленные — вроде ухода Америки из Восточного полушария. Что бы сейчас сделал террорист-«классик»? Убил Путина? Ну и что? Это самая нелепая идея, которая может быть. Система начала «плыть», в ней все связано и все автономно, ничего нельзя дифференцировать — ни полицию от мафии, ни политиков от бизнесменов…
— Разве в «классическую» эпоху не было двойных агентов, провокаторов?
— История с Азефом шокировала Россию, буквально нокаутировала. Сегодня она, увы, прошла бы незамеченной. Весь вопрос в том, что для сознания данного общества является нормой, а что нет.

Гегель говорил, что история никогда не становится свершившейся, пока она не повторится.
— Не так давно весь мир говорил о волнениях во Франции. На улицы вышли тысячи человек — почему?
— Насколько я понимаю, они выходили туда дважды: осенью, когда разразилась «война пригородов», и весной, когда студенты протестовали против «закона о первом контракте». Так вот, суть в том, что причины этих двух выступлений были прямо противоположны. Осенью бунтовали эмигранты — люди, плохо интегрированные в тот глобальный механизм, о котором мы говорили. Он оказывается в их случае неэффективен — в отличие, кстати, от США, где никакого этнического протеста нет, так как интеграционные схемы отлажены намного лучше. В Европе же эмигранты остаются словно в стороне. Поэтому они ту стену, что отделяет их от «полноценных» членов общества, видят вполне реально. И начинают ее штурмовать. Это, если угодно, осколок «старой» культуры бунта. А вот когда правительство приняло проект «закона о первом контракте» — как раз для того, чтобы облегчить интеграцию эмигрантов, — восстали уже «полноценные» члены общества. И это было именно то самое восстание против текучести всего и вся в современном мире.
— Значит, возможность протеста нельзя исключать?
— Но это же нельзя называть «протестом»! По крайней мере — революцией в классическом смысле слова! Это революция наоборот, это протест консервативного типа: когда тысячи людей выходят на улицы ради того, чтобы ничего не изменилось. Чтобы все оставалось по-прежнему. Революция — это всегда была попытка что-то изменить. А не законсервировать. Вообще говоря, кубинская революция была, пожалуй, последней «меняющей», «модернизирующей» революцией. В мае 68-го тоже была еще попытка «штурмовать небеса», придумать какой-то новый радикальный марксизм — смутная попытка, маловнятная, но хоть какая-то… А начиная с иранской все революции стали «антимодернизирующими». Мне кажется, что это свидетельствует об очень низком протестном потенциале современного общества. Нас уже хватает только на то, чтобы ратовать за сохранение status quo. На большее мы уже не способны.

— Тогда почему фоторепортажи «консервативного» бунта французов были очень похожи на фотокарточки 1968? История повторяется как фарс?
— Повтор в истории — вообще очень интересная тема. Можно сказать, что французы 2006-го года подражают французам 1968-го. Или даже — фотографиям 1968-го. Гегель говорил, что история никогда не становится свершившейся, пока она не повторится. Потому что событие, произошедшее один раз, воспринимается как случайность, а историческим фактом оно становится, лишь будучи повторенным. Но вместе с тем происходит странная вещь: повтор есть нечто конституирующее историю, но не историческое по существу. Ведь история неповторима, в этом ее суть. А повтор — это попытка закрепить нечто историческое как реальное. Попытка утвердить то, что уже не существует. Так что если новые бунтари похожи на прежних — значит, новые никакие не бунтари. А чистая фикция, клон.
— Если их внутренний протест так невнятен, а результат столь сомнителен, почему они вообще выходят на улицы?
Сеанс № 67. Время ресентимента
— У Фрейда это называется «трансфер» — перенос информации, которая была раньше зафиксирована как болезненная, на врача. Но у трансфера есть и оборотная сторона — сопротивление. Ведь актуализация происходит в другом контексте, травме при проекции на врача придается другая форма. Истинная, глубинная травма благодаря трансферу только камуфлируется. Этакий маскарад, на котором реальность удобства ради прикидывается реальностью, но на деле является фикцией. Так и здесь. Какая-то травма французского общества, которую оно не хочет изжить, все время пытается сохранить себя, представая — «через трансфер» — в обличье того или иного бунта. Я делаю вид, что хочу что-то изменить, а на самом деле пытаюсь сохранить в неприкосновенности, я не хочу дать увидеть свою травму. Чисто консервативный жест принимает форму чисто радикального.
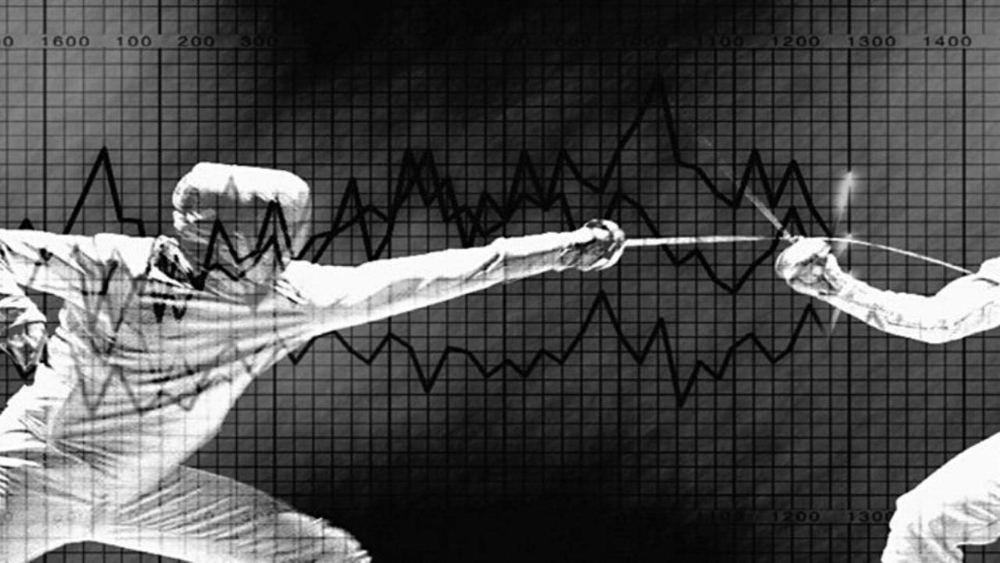
Вдруг стало ясно, что не общество подчиняет экономику своим нуждам, а экономика — общество, и ничего с этим сделать нельзя.
— Не точно ли такой же механизм работает при попытке сделать «протестное кино»?
— Кино само по себе — искусство очень сложное и подозрительное. Я имею в виду, подозрительное онтологически — оно все время принимает формы копии реальности, репрезентации, какой-то видимости… И поэтому чрезвычайно легко впадает в форму лжи. Но всегда были авторы, которые пытались бороться с этой фиктивностью кино. Эйзенштейн, призывавший моделировать с помощью монтажа форму активного сознания. Или Годар, который предпринял попытку превратить кино в аппарат критического мышления, а не тупого репродуцирования фикций, которые люди потребляют как попкорн… Метц говорил, что в кино существует два типа идентификации. Первичный — это когда ты идентифицируешь свой мир с самим миром кино. Вторичный — это идентификация с артистом, на которого ты проецируешь себя, который есть твой «Другой» и т. д. Так вот, в современном кино первичный тип абсолютно доминирует. Мир вокруг столь же фиктивен, сколь и на экране, и столь же самодостаточен. Так что актер, который раньше помогал зрителю входить в фильм, больше не нужен.
— То есть исчезает личность как посредник?
— А где нет личности, там нет и личного выбора, и личной позиции, и — шире — нравственности. И потому нет и не может быть никакого протеста. Кому протестовать, против кого? Происходит фундаментальная социальная интеграция. Человек растворяется в коллективе. Вместе со всем, что делало его личностью.

Капитализм отвратителен, он разрушает ценности, но поделать с ним ничего нельзя.
— Мы приходим к тому, что в цивилизованном, то есть демократическом обществе судьба личности — раствориться в коллективе, исчезнуть?
— Смотря какую демократию вы имеете в виду. Если по Руссо — то да, индивидуальность каждого отчуждена в пользу идеального общества, и все полностью равны. Но греки считали, например, что демократия — это общество свободных людей. А свобода в публичном пространстве — это свобода личного выбора. Мне кажется, что демократия по существу личность не отменяет. Не в равенстве свободных корень зла, а в равенстве потребителей. Капитализм превращает весь мир в огромный рынок, точнее — универмаг, и вот уже человек — не потребитель даже, а так… декоративный элемент социальных институций. Какая уж тут личность… Но демократия тут ни при чем. Демократия — изобретение человеческое, и регулируется она людьми, изнутри. А вот рынок… Я с годами становлюсь все большим фаталистом. Потому что нет такой силы, которая может остановить рынок. Капитализм отвратителен, он разрушает ценности, но поделать с ним ничего нельзя. Происходит нечто, над чем никто не властен. Мы существуем внутри некоей системы понятий и отношений: цена, стоимость, прибавочная стоимость, — мы сами их все придумали, а они стали реальными. И вот они уже реальнее нас самих. Наша жизнь подчинена не нашему собственному разуму, но так называемому «инструментальному».
«Я сепаратист и патриот»
Вы помните, как все началось?.. Очень мирно. В Англии изобрели ткацкие станки — первые производящие машины. Появились мануфактуры, на которых начали изготавливать очень много сукна — больше, чем нужно. Но остановить можно ткача, станки — нельзя. Ведь машина должна работать, любой ценой: теперь это первейший принцип экономики. Итак, станки работали на полную мощность и, конечно, требовали все больше шерсти. Значит, нужно было все больше овец. А для этого нужно было уничтожить все поля и превратить их в пастбища. И они сделали это. Сельское хозяйство рухнуло, начался голод, депопуляция, крестьяне вынуждены были уйти из деревень в города, впервые появились «dangerous classes» — бродяги, бандиты; пришлось резко усилить полицию, а налоги платить некому… Власти в панике стали вводить запрет на овец — и вдруг выяснилось, что этого делать нельзя. Потому что машина работает. Вдруг стало ясно, что не общество подчиняет экономику своим нуждам, а экономика — общество, и ничего с этим сделать нельзя. Тогда-то и возник капитализм. Средства производства вдруг оказались целью, которая начала доминировать над всем: над человеческими возможностями и потребностями, над решениями общества, над велениями разума… И как бы мы хорошо ни понимали, что это ужасно и гнусно, — нет такого человека, такой силы, которые смогли бы это остановить. «Машины желания» — это всего лишь ступень в эволюции простого ткацкого станка.
Читайте также
-
«Вот что такое художник-постановщик, а не застройщик» — разговор с Владимиром Гудилиным
-
«Нам было очень стыдно» — Фабрис Дю Вельц о «Деле „Мальдорор“»
-
«Стараюсь подражать природному свету» — Разговор с Сергеем Астаховым
-
Зака Абдрахманова: «Мне кажется, все точки уже поставлены»
-
«Либо сказка, либо 1990-e»
-
«Это не загадка, это масштаб личности» — Алла Демидова об Иннокентии Смоктуновском









