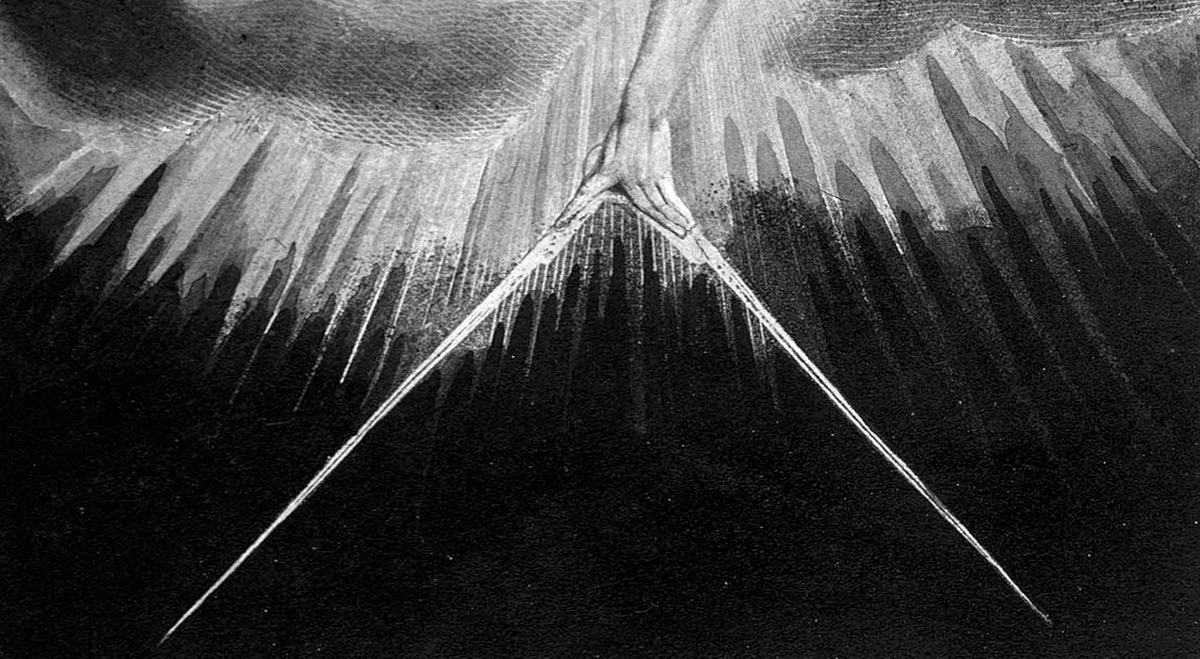Непобедимый. Ларс фон Триер и принцип наглядного примера
Я, Ларс фон Триер, желаю вам приятного вечера: впереди нас ждет встреча как с божественным, так и с дьявольским.
СЕАНС — 27/28
Эти довольно претенциозные слова говорит несимпатичный молодой человек в смокинге; при слове «бог» он рисует в воздухе маленький крестик, при слове «дьявол» — показывает зрителям «козу».
Это титры первого сезона сериала «Королевство», сделанного фон Триером в середине 90-х — в противоестественном и очень модном тогда жанре «мыльной оперы для самых умных».

Ещё один камешек в наш ботинок
«Королевство» вольно заимствовало образы и темы из только что отгрохотавшего «Твин Пикса». Сам Триер появлялся в финале каждой серии на фоне вполне линчевской красной портьеры и вкратце пересказывал только что увиденное телезрителями — ухитряясь уложить макабрический сюжет с призраками и врачами-убийцами в две-три запредельно клишированные, банальные фразы. Потом, как уже было сказано, делал «козу» и растворялся в воздухе.
Когда через 10 лет Стивен Кинг переписал неоконченное «Королевство» для американского ТВ, функции фон Триера (в основной своей части) перешли к говорящему муравьеду. Кроме поразительного физиогномического сходства между датчанином и кинговским зверьком (кто тщился понять, на какое именно животное похож Триер, — тут наверняка хлопнут себя по лбу), эта дурацкая тривиа мила и тем, что вполне верно передает сравнительно недавний триеровский статус.
Но Триер, все-таки, случай беспрецедентный.
Еще 10 лет назад Ларс был вполне себе говорящим муравьедом из кунсткамеры, образцовым носителем распространенного в 90-е диагноза «наш талантливый мальчик». Не худшим — но уж никак не самым ярким представителем поколения игроков в бисер перед свиньями. Даже к началу нулевых, когда в нем почти не осталось попкультурного ухарства, когда уже была подписана Dogma, отдана на закланье первая из прекраснодушных триеровских страдалиц, а плотник уже нарубил досок на эшафот для второй — даже тогда датчанин казался скорей высококлассным ловкачом, чем человеком, способным что-то в ком-то всерьез перевернуть. Устрой кто-нибудь в 2000 году тотализатор на предмет того, кто из пресловутых «мальчиков» сподобится шагнуть от игр к величию, автор этих строк скорей уж поставил бы на кого-то из младших — на Тыквера или Винтерберга… И пусть это свидетельствует о дурном вкусе автора! Но вот Бергман (у него хороший вкус), Бергман уже после всех каннских славословий «Танцующей в темноте» брезгливо обронил, что из Ларса мог бы выйти режиссер — но вот беда, парень, кажется, никогда не отучится врать, выкобениваться и выделывать дешевые рекламные фокусы.

И это и есть, наверно, самый главный вопрос: как получилось, что этот пижон и компилятор (посмотрите на него образца 94-го: смокинг явно с чужого плеча, портьера за спиной — и та краденая) стал тем, кем он стал? В какой момент был им сделан шаг, после которого кино как-то естественно, будто так и надо, стало вдруг делиться на фильмы Ларса фон Триера и все остальные?
Что революции через раз совершаются мошенниками, а магия и шарлатанство — понятия родственные, вольно перетекающие друг в друга, — известно давно. Но Триер, все-таки, случай беспрецедентный. Отслеживать его творческий маршрут — это как смотреть на человека, идущего по проволоке, и вдруг понять, что проволоки больше нет, а человек тем не менее продолжает идти. С такой же несимпатичной пижонской ухмылкой, но уже по воздуху. Вглядимся же еще раз в размытый стоп-кадр, на котором подающий надежды молодой режиссер показывает нам «козу»… А теперь отмотаем назад.
В содержании самовлюбленности оказывается куда меньше, чем в форме.
Триер дал о себе знать в середине 80-х — именно тогда на культурных полях США и Европы начали пробиваться к свету драконовы зубы, чтоб позже зацвести и стать кинематографом 90-х. Иными словами, тогда кино стало потихоньку выскальзывать из рук, грубо говоря, мыслителей, чтоб быть подхваченным людьми, мягко говоря, визуально ориентированными. В американском словаре политически корректных слов термином «визуально ориентированный» обозначают глухих, применительно же к деятелям искусства он, скорее всего, означает дурака и невежду. Ни то, ни другое в данном случае не оценочные определения: самое замечательное кино нашего времени — от «Терминатора» до «Мертвеца», от «Диких сердцем» до «Пятого элемента» — делали как раз талантливые дураки и болваны с обостренным чувством прекрасного. Самопровозглашенные дети Фрица Ланга и Орсона Уэллса, выпускники всемирной художественной школы, пропустившие мимо ушей все скучное, но намертво разучившие предисловие к «Портрету Дориана Грэя» — где, как известно, сказано, что видеть в красивом дурное — не просто грех, а грех непривлекательный.

Догма 95: Фильм №2, идиотизм по правилам
Под их предводительством помолодевшее, похорошевшее чисто внешне, соскользнувшее в чувственность кино и схватилось за пресловутый постмодернистский инструментарий, отточенный за предыдущие десятилетия людьми куда более вдумчивыми. Схватилось радостно и бездумно — так ребенок сует в рот бритвенное лезвие. Кто старше, понимают, что бритвой можно подчищать отметки в дневнике, резать вены или ровнять кокаиновые дорожки, что ею можно побриться, наконец, — ребенок же ничего этого не знает и просто радуется соленому вкусу во рту.
Эта наивная кровавая улыбка пришла в 90-е в каждый дом и вызвала споры на самых разных уровнях. Если в предыдущие годы критика постмодернизма была вопросом философским или искусствоведческим, сейчас она переместилась в плоскость общественной морали: средней руки городской голова вполне в состоянии поддержать разговор о том, что примат эстетических критериев над нравственными — это очень плохо. Триер подоспел как раз к началу этой большой игры. Его полнометражный дебют «Элемент преступления» (1984) целиком сделан по компилятивной методике, которую обыкновенно приписывают Квентину Тарантино его хулители. С той лишь разницей, что Триер использовал в качестве донорского материала не жанровое кино народов мира, а важные книги и кинематограф великих. «Элемент» — вещь по-своему замечательная, с довольно мощной внутренней энергией, но вместе с тем это точно один из самых напыщенных, претенциозных и бессовестных дебютов в истории кино. Маленькие дети здесь поминают считалочками Оруэлла; восточные проститутки цитируют Джойса; льется по стеклам вода; люди засыпают на ворохе хирургических инструментов; ветер перелистывает книги, разложенные на траве; лошади тянут телеги, под завязку груженные черно-белыми яблоками. Экспрессионизм мешается с тарковщиной, путевой обходчик, со спины похожий на Фасбиндера, свистит «Лили Марлен». Все это настолько через край, что даже и неловко: если сегодня поглядеть на триеровский дебют совсем по-честному, невольно окажешься на стороне тех, кто страшно ругал его 20 лет назад, — а не тех, кто за эти 20 лет нашел в нем бездны смыслов.
Можно назвать это шарлатанством, можно — работой со смыслами: разница в данном случае небольшая.
И дело тут не в неофитском надувании щек (хотя когда молодой Триер на полном серьезе играет в Тарковского, это так смешно, что смешней с тех пор получилось только у рисовальщика комиксов Энки Билала, чьи герои заливают экзистенциальную печаль водкой Tarkovsky — с опереточным усачом на этикетке). И даже не в том, что фильмы, которые Триер попытался переработать для собственных нужд, — материал в сто раз менее податливый и пластичный, чем тот хлебный мякиш, из которого лепил и лепит свои фильмы Тарантино. Проблема, кажется, в том, что изначальный подход был куда менее честный: Триер пользовался смыслами как сугубо дизайнерским элементом, громоздя их друг на друга, чтоб получить чисто оптическую иллюзию некой глубины. Происходило это вполне осознанно: комментируя «Элемент» сегодня, Триер рассказывает, например, что в те годы они с соавтором Нильсом Ворселом часто пользовались довольно грубым словосочетанием, которое на русский переводится приблизительно как «е…ная мифология». И все, что подпадало под это определение, любой интересный, отягощенный культурным контекстом, да и просто странный, непонятный, умный предмет — немедленно засовывался в пространство картины: для придания ей веса, объема, убедительности и проч. В этом плане Джойс (которого Триер не читал, по крайней мере, на момент съемок «Элемента») и дохлая лошадь (один из центральных символов картины) — имели для датчанина приблизительно одинаковую, сугубо прикладную ценность. Можно назвать это шарлатанством, можно — работой со смыслами: разница в данном случае небольшая. В итоге этой «е…ной мифологией» (от чего не принять на вооружение термин, тем более если он из первых рук) пронизаны, пусть в разной степени, все фильмы первой триеровской трилогии «Е» («Элемент преступления», «Эпидемия», «Европа»). В наименьшей степени страдает от этого замыкающая «Европа»: во-первых, градус чисто технического совершенства тут все-таки настолько высок, что с лихвой искупает многое; во-вторых, здесь Триеру впервые почти удается то, к чему он будет стремиться из фильма в фильм — выход за пределы экрана. Когда персонажи «Европы» стреляют друг в друга в упор, и жертва с убийцей попеременно оказываются кинопроекцией на белой простыне — это выглядит технической репетицией, лабораторным вариантом случившейся 10 с лишним лет спустя большой догвилльской зачистки. В ходе которой каждый из сидящих в зале, в зависимости от того, куда была изначально повернута его голова, становился или стрелком, или мишенью.

Чтобы не возненавидеть ранние триеровские фильмы, надо по возможности не обращать внимания на то, из чего и как они сделаны. А также абстрагироваться от красивейшего, самовлюбленного антуража и не слушать интонацию. Вместо этого послушать, что он, собственно, говорит. В содержании самовлюбленности оказывается куда меньше, чем в форме. Попыткам устранить это противоречие Триер посвятит все 90-е и, к счастью, преуспеет в этом лишь отчасти: его фильмы по сей день остаются красивыми («слишком красивыми, чтобы быть по-настоящему хорошими», сетует он сам.) Центральная тема и трилогии «Е», и последовавшего «Королевства» (где Триер променял Тарковского на Линча с такой легкостью, что начинаешь думать: не так уж он ему был дорог, этот Тарковский) — потеря ориентиров, поиск точки опоры в мире, который неспешно, но верно едет в тартарары.
Триер с самого начала не верит не только в себя и свои методы.
Вот в «Элементе преступления» лирический герой Триера — криминалист Фишер, владеющий методикой (чисто теоретически) раскрытия любых преступлений. Он возвращается с Ближнего Востока и, как романный крестоносец, видит безрадостную картину: у власти идиоты, старый учитель выжил из ума, архивы затоплены, на книжных полках лишь пыль… И даже топография родного города изменилась до неузнаваемости, а универсальный ключ к секретам бытия, носителем которого герой вроде бы является, — не факт что к чему-то подходит. Вот в «Европе» еще один триеровский двойник, Леопольд Кесслер (образ, надо сказать, уже куда менее нарциссический, чем в «Элементе»), пытается остаться хорошим парнем в условиях террористической войны. Вот, наконец, в прологе «Королевства» говорится про «некоторую усталость в конструкции огромного, прекрасного здания, во всех остальных смыслах вполне еще крепкого».

Этот пессимизм и навязчивый мотив упадка — нечто большее, чем традиционный для большинства игроков на постмодернистском рынке комплекс понимания себя в качестве жалкого, недостойного последователя неких титанов. Триер с самого начала не верит не только в себя и свои методы (в «Элементе преступления» профессор криминалистики становится серийным убийцей; в «Королевстве» врач-психиатр, почитающий психиатрию лженаукой, и нейрохирург, отрицающий существование мозга, пытаются разглядеть образ грядущего в собственных экскрементах). С самых первых шагов Триер недоволен и возможностями режиссерской профессии как таковой — он определенно ищет пути прямого воздействия на аудиторию. Недаром два из трех фильмов трилогии «Е» оформлены в виде сеансов гипноза (с закадровым счетом до 10 и проч.), а в «Эпидемии» гипноз используется, чтобы разрушить границу между экраном и жизнью. Как следствие, режиссер, сценарист и продюсер не снятого пока фильма заражаются некой чумой, которую сами выдумали.
Наверное, Триер был бы счастлив чем-нибудь заразиться, а еще больше счастлив, если б ему удалось на самом деле загипнотизировать какого-нибудь толстяка во втором ряду. Но золотые часики гипнотизера качаются впустую, трилогия «Е» очевидно не достигает цели. Она слишком умственна, слишком схематична, ею можно восхищаться лишь на очень отстраненном умозрительном уровне.
Триер на шести догвилевских сотках расстрелял Уайльда, а потом уже только всех остальных.
И Триер, понимая это, как койот (ну или муравьед), попав в капкан, решительно отгрызает себе лапу. Отсекает от себя то, что мешает ему продолжать движение. Он лишает себя удовольствия снимать в дизайнерском, контролируемом пространстве, переходя к умышленно неряшливой, спонтанной манере. Он пробует ее в телесериале, а после формализует в виде «обета целомудрия» Dogma-95. Запрещает себе игры со светом, водой, фактурами и прочее чисто кинематографическое сладострастие, как склонный к ожирению человек отказывает себе в вожделенной булочке с джемом.
Тогда же, в рамках того же стремления к целомудрию, Триер отправляет в долгосрочную ссылку своего лирического героя. После того как тело Леопольда Кесслера из «Европы» уплыло по реке к морю, из фильмов Триера надолго исчезает сам Триер, да и вообще кто-то, кого, пусть даже с натяжкой, можно было бы посчитать альтер его автора. Пресловутый комический конферанс на титрах «Королевства» надо понимать как окончательное развенчание фигуры автора; наглядную демонстрацию того, какой автор лишний, никчемный человек, как нелепы и смешны те выводы, которые он пытается навязать аудитории, какой он в конце концов идиот. В трилогии «Золотое сердце» («Рассекая волны», «Идиоты», «Танцующая в темноте») автора нет вовсе. Правила «Догмы» запрещают даже упоминание фамилии режиссера в титрах — забавней всего, что этому правилу, придуманному Триером для изгнания своего собственного персонального демона (точнее, самого себя, показывающего крестик и «козу») из собственных фильмов, следуют другие. Как воннегутовский герой, устроивший массовое самоубийство марсиан лишь затем, чтоб прояснить для себя парочку сугубо внутренних спорных вопросов, Триер создал собственное кинематографическое течение. Которое, может быть, и не станет тем глобальным явлением, каким оно виделось всем в 90-е, но будет в той или иной степени жить. Триера не станет, а дети будут играть в «Догму».

Теология прямого действия
Забавно и то, что, проведя блестящий Ритуале Романум длиной почти в 10 лет, Триер по итогам решил помиловать изгнанного демона. Очевидно, он вполне уверен в том, что ему не грозит соблазн снова впасть в изображение собственных биохимических реакций и заняться экранной мастурбацией («угрюмый датчанин, мастурбирующий во мраке кинозала» — знаменитое обидное определение из Сцреен Интернатионал так нравится самому Триеру, что он без ссылки на первоисточник употребляет его в предисловии к переизданию трилогии «Е»). И с этой уверенностью он снова впускает себя в свои фильмы. Пресловутый лирический герой всплывает в американской трилогии, но уже не как герой, а как курьезный, достойный осмеяния и в целом отрицательный образ. В «Догвилле» это Том Эдисон-младший, который в разгар бойни на улицах родного города думает о том, что «из этого выйдет книга, а как знать, может, даже и трилогия» (трилогия!). В «Мандерлее» — странствующий трикстер доктор Гектор, с помощью шулерского карточного фокуса разрушающий старательно выстроенную модель справедливого общества. Том Эдисон-младший жалок и достоин пули, доктор Гектор скорее молодец, и уезжает с деньгами, но если наложить эти два образа друг на друга, мы получим вполне себе стереоскопический образ автора как злодея. Человека небескорыстного, недостойного доверия и просто недостойного. Собственно, портрет режиссера, каким он выглядит большую часть времени.
Триера довольно долго считали трикстером, в основном из-за его рекламных слоганов, так раздражавших Бергмана (и действительно блистательных). «Фашизм самый большой эстетический подарок, который человечество получило в 20 веке» (это про «Европу», но Татьяна Михайловна Лиознова тоже наверняка согласится), «Религию на экран!» (кажется, по поводу той же «Европы»), «Снято идиотами для идиотов» (собственно «Идиоты»).
Неважно, что в процессе борьбы с манерностью и чувственностью он случайно совпал со вкусами каннского жюри.
Сюда же, видимо, стоит отнести и грандиозный трюк с Американской трилогией: продать философское исследование под видом актуальной критики кровавого режима Джорджа У. Буша — это, конечно, высший маркетинговый класс. Копирайтер сидит на самой вершине постмодернистской пищевой пирамиды (в «Идиотах» есть на эту тему точнейшая сцена, где герои за три минуты перековывают большевистский лозунг в рекламный слоган детского питания).

Фрагмент книги «Ларс фон Триер: контрольные работы»
Но триеровский маркетинг, как и триеровская ирония, простирается несколько дальше, чем обычно принято. Он самую малость «по ту сторону Севера, по ту сторону льда» — там, где лозунг Drink Coca Cola! (или, если угодно, «Смотрите фильмы Ларса фон Триера!») незаметно сменяют литые оруэловские максимы: «ВОЙНА — ЭТО МИР», «СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО», «НЕЗНАНИЕ — СИЛА».
«Милосердие — это безответственность», припишет снизу легким девичьим почерком Грейс Маргарет Маллиган…
«Танцующую в темноте» вообще стоило сунуть в скоросшиватель и оставить в архивах «Центропы».
И тут мы подходим к главному. К тому, почему Ларс с его ужимками и враньем вообще стоит разговора. «Склонность к морализму рождает непростительную манерность стиля», — написал Уайльд в уже упоминавшемся предисловии к «Дориану Грэю», и эти слова упирались в кончик носа всякому, кто решал поговорить о морали и нравственности на протяжении последней пары веков (либо у нас тут искусство, либо «жить не по лжи» — кажется так).
Триер на шести догвилевских сотках расстрелял Уайльда, а потом уже только всех остальных. Сражаясь с формой, он получил в итоге форму, позволяющую говорить о вопросах морали с той степенью серьезности, которую позволяли себе лишь припозднившиеся классицисты да полные болваны. «Наглядный пример» — это не только прием, используемый героями «Догвилля» в их дискуссии о нравственности и в смысле наглядности доходящий до пули в лоб. Наглядный пример — это сам Ларс фон Триер, за какие-то 10–15 лет закаливший игрушечную сабельку до кондиции самурайского меча. И тут неважно, как именно он разминался, на чем отрабатывал технику, какой спорный вид принимала порой его аскеза. Неважно, что в процессе борьбы с манерностью и чувственностью он случайно совпал со вкусами каннского жюри (по мне, так «Танцующую в темноте» вообще стоило сунуть в скоросшиватель и оставить в архивах «Центропы» для узкоцпециального пользования — ну, или издать академическим тиражом на DVD).

И не надо хватать датчанина за руку и требовать от него следования своим собственным правилам. Если набор формальных правил и законов не подходит для жизни (об этом, кроме прочего, и первые два фильма Американской трилогии), то он точно не подходит для того, чтоб снимать кино.
В чем моральное право Триера, насколько он честен с собой и с нами, нам, возможно, предстоит узнать в будущем. Но его наглядный пример пока что бьет все наши, это точно.