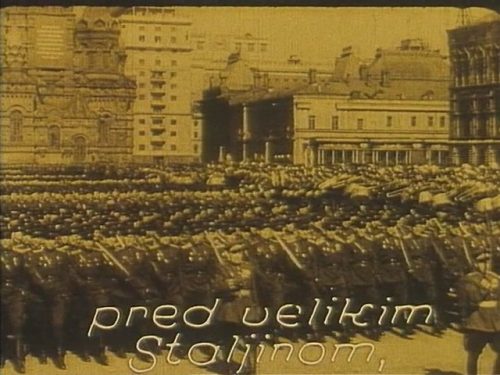«Пластичный Иисус». Реж. Лазар Стоянович. 1971
В слове «невиданное», заглавном для нашего цикла, частенько таится восклицательный знак: ух ты, мол, эка невидаль. Но сегодняшний фильм — невиданный в буквальном смысле. На протяжении 18 лет его действительно не видела ни одна живая душа. Ибо «Пластичный Иисус» Лазаря Стояновича послужил поводом к, насколько мне известно, беспрецедентному сюжету в истории кино: это дипломная работа, за которую студент (учившийся в Белградской киноакадемии в мастерской Александра Пéтровича, знаменитого режиссёра и одного из лидеров так называемой югославской «чёрной волны») получил три года тюрьмы. С формулировкой «за призывы к насильственному свержению государственного строя». Всякое бывало: фильмы клали на полку, фильмы становились поводами к политическому преследованию, — но всё же лишь поводами. Здесь же срок дали аккурат за фильм.
Надо вам сказать, что в последнее время в киномире вообще активизировался интерес к югославской чёрной волне. В пору моей юности на слуху был, в общем-то, один Душан Макавеев, ныне же и Петрович, и Желимир Жилник, и другие лидеры движения постоянно становятся героями всяческих ретроспектив, не говоря уж о киноведческих статьях и постах в синефильских блогах. Например, мой дорогой друг Борис Нелепо, тесно связанный с фестивальным движением и вообще отпетый космополит, всякий раз, когда где-нибудь в facebook’е встречается упоминание чего-нибудь, связанного с югославской чёрной волной, немедля разражается комментариями или попросту ставит множество восклицательных знаков; когда я поместил там анонс этой лекции, он (не поручусь, что в шутку, хоть и очень на то надеюсь) написал, что тюремное заключение Стояновича — единственное, в чём можно упрекнуть маршала Тито: «И на солнце бывают пятна», обронил он. (Я не всегда понимаю его юмор, он слишком погружён в фестивальную среду, а там юмор свой.) Отчего югославская чёрная волна так стремительно и мощно вошла в моду, понятно, однажды это должно было наконец случиться: все остальные «новые волны» уже вроде бы вызубрены назубок, всем знакомы вдоль и поперёк, никому не удивительны и порядком приелись, — а тут целые грозди чего-то совершенно немыслимого, со сногсшибательным монтажом и головокружительными конструкциями… Так вот, даже на фоне югославской чёрной волны, фильм Стояновича «Пластичный Иисус» — чистейший tour de force.

«Пластичный Иисус»
Как было дело? Принято считать (а этому фильму в последнее время уже посвящено некоторое количество исследований), что режиссёрский вклад Стояновича, разумеется, велик, но едва ли не бóльшая заслуга принадлежит главному герою фильма, которого звали Томислав Готовац и который в тот момент, когда Стоянович ещё только доучивался в киноакадемии, был уже вполне сложившимся, известным на всю страну художником. Предполагается, что Стоянович, который был младше (пусть и всего на семь лет), подпал под сильное влияние своего именитого коллеги, — тем более, что тот, помимо своих художественных занятий, и к кинематографу питал интерес давний и преданный, — и что потому Готоваца можно рассматривать, по меньшей мере, как полноценного соавтора фильма. Отчасти это справедливо. Томислав Готовац — действительно одна из самых важных фигур в истории югославского искусства XX века. Мало того, что он числится основателем перформанса в Югославии, — он и художник, и кинематографист, и публицист, и актёр, и акционист… в общем, там ещё много-много разных слов, больших и важных. Более пространен тут был бы только список влияний. Человек абсолютно неуёмного артистического темперамента, Готовац вобрал (чтобы не сказать «впитал») в себя, кажется, все мыслимые радикальные течения за всю историю XX века, — в первую очередь те, которые в какой-то момент отмерли, вместо того, чтобы, став общепризнанными, утратить свою радикальность. Так, скажем, влияние сюрреализма на Готоваца признаётся, но особо не акцентируется; а вот неодадаистом его называют постоянно. Понятное дело, сюрреализму ещё можно придать хоть какую-то конвенциональность, а вот дадаизму — никак.

«Пластичный Иисус»
К 1971 году, когда Стоянович принимается снимать свой диплом, Готовац, первый свой перформанс сделавший ещё в 1954-ом, уже является автором двух десятков фильмов, и многие его вообще числят лидером югославского экспериментального фильма. Он очень тщательно, как и многие в середине 60-х, переносит на местный материал годаровские методы (тогда чуть не в каждой стране можно было без труда сыскать по десятку маленьких годарчиков); он, что не очень обычно для акционистов, исключительно внимателен к структурам своих фильмов; а ещё он — в отличие от Годара — придерживается, может, не самой редкой, но очень жёсткой точки зрения: изображение в кадре не имеет прообраза. Как и положено истинному наследнику дадаистов, он полностью отрывает киноизображение (неважно, снял ли он его сам или взял из чужих съёмок) от его происхождения; кадр означает ровно то, что означает находящееся в нём, само по себе, как таковое. Никакого контекста. Для Готоваца это первая, отправная точка для его более общих идей об абсолютно обнажённом искусстве: искусстве, очищенном от любых напластований посторонних, внешних смыслов — то есть любых, кроме тех, что вырабатывает оно само. Идея, прямо сказать, не из экзотических, ею постоянно занимались теоретики искусства на протяжении всего XX века, её лелеяли авторы доброй половины эстетических манифестов столетия — от футуристов до творцов нового романа. Просто так уж эта идея плодотворна, что у разных художников она приводит к самым разнообразным результатам. Самые очевидные и самые известные из тех воплощений, что придаёт ей Готовац, — это его перфомансы, которые он производит, как правило, в голом виде. В частности, в фильме Стояновича небольшой фрагмент занимает подлинный перфоманс, который Готовац исполняет в 1971 году, когда абсолютно голышом (а он довольно смешной, когда голышом) пробегает по деловой части Белграда. Разумеется, за такое непотребство его всё время арестовывают, и он, разумеется, принимает это как должное. На всякий случай уточню: дело ведь не в том, что он-де эксгибиционист, — вероятнее всего, даже нет. Дело в том, что для его перформансов принципиально вот это утверждение о положении художника: не только о положении социальном (это понятно, но это проще всего), но и о том, которое неразрывно связано с художественным способом мышления. Художник не имеет права опираться на структуры, по которым живёт окружающий мир. Он имеет право работать с элементами реальности только как с элементами текста, в чистом виде, и образовывать из них что-то новое. Именно на этом основывается переход Готоваца в акционизм.

Томислав Готовац
И всё же, по-видимому, центральным полем деятельности для Готоваца всё равно оставалось кино. Может, не самым «важным», — но в буквальном смысле центральным: попросту говоря, сюда всё сходилось. И если представления о жёсткости структуры Готовац действительно во многом заимствует у Годара, а самодостаточности текстуального элемента учится у дадаистов, то с точки зрения рафинированности понимания стиля съёмок как единственного содержания киноприёма Готовац — скорее югославский Уорхол, чем Годар. Самые знаменитые его фильмы (как, например, «Предполуденный отдых фавна») главным своим содержанием имеют способ съёмки реальности, а не то, что попадает в объектив: если осуществляется постепенный наезд, тогда и фильм — про постепенный наезд. Если же стиль основан на статичной камере с лихорадочными трансфокаторными наездами и отъездами, то именно они создают смысл происходящего, реальность же становится всего лишь менее чем материалом — поводом к съёмке.
Этот-то радикализм построений Готоваца и служит, как правило, причиной того, что ему приписывают фактическое соавторство фильма «Пластичный Иисус». На самом деле, по-видимому, всё чуть-чуть сложнее.
Стоянович тоже ведь берётся не совсем ниоткуда. В кинорежиссуру он приходит, уже имея профессию; само по себе это, понятно, не редкость, режиссура вообще занятие взрослое, — но всё-таки, как правило, это обычно бывает профессия из «сопредельных»: скажем, тот же Готовац по первому образованию архитектор. Стоянович же — психолог. Более того: когда он отсидит свои три года, а потом на год уедет в Америку, чтобы затем всё же вернуться в Сербию, то получит учёную степень; и сейчас он — помимо занятий режиссурой и всяческой побочной деятельности вроде работы в фестивальных жюри — ещё и профессор психологии. Кроме того, как вы увидите, «Пластичный Иисус» — фильм, конечно, радикальный, но радикализм его, если вглядеться, несколько иного сорта. Фильм запрещают, в первую очередь, за то, сколь вольготно, скандально и провокативно Стоянович монтирует кинохронику: хронику студенческих волнений в Белграде 69-го, хронику открытия Хорватской национальной ассамблеи в феврале 42-го, хронику Парада Победы на Красной площади в 45-ом… Там, где Готовац рассматривал бы кадр «как таковой» и предоставил бы киноизображению говорить самому за себя, Стоянович оставляет, учитывает и использует каждый исторический контекст, из которого эти изображения выдернуты.
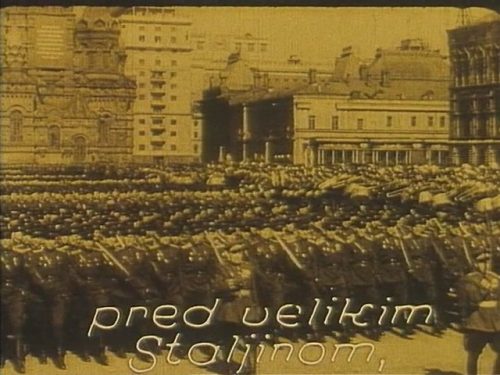
«Пластичный Иисус»
Готовац, как можно было понять из предыдущего изложения, будучи убеждённым анархистом в искусстве, таковым же является и в политике. Со Стояновичем всё сложнее, и слово «анархизм» к нему, пожалуй, неприменимо ни там, ни тут. Сам он не так давно в одном интервью признался, что да, конечно, он был левым, — тогда все были левыми, время было такое, — и да, конечно, склонялся к радикальным политическим идеям, благо что постоянно вращался в соответствующих кругах, и те к нему благоволили. Но у него, как у человека с дипломом психолога, с теми идеями и кругами всё время возникала одна заминка. В предельно огрублённом виде это выглядит примерно так: вот, скажем, Маркс — вслед за Гегелем — уповает на то, что зло является следствием социальной несправедливости. То есть порождается механизмами прессинга, угнетения, классового неравенства, эксплуатации и проч. Это то, во что верит большинство современников Стояновича, в том числе — многие молодые режиссёры новых волн 60-х, которые перестают видеть разницу между Марксом и Фрейдом, то есть между угнетением социальным и угнетением сексуальным, патерналистской структурой общества и наваждением от фигуры Отца. Но стоит только подналечь — как «всё это выйдет наружу, нарыв вскроется, комплексы уйдут, неврозы уйдут, социально-классовое неравенство отменится — и всюду расцветут цветы. Наверное». А вот у Стояновича есть вопросы и уточнения к этой расчудесной картинке. Ведь речь тут идёт о процессе некой эмансипации, некоего высвобождения внутреннего содержимого человека, точнее говоря — о высвобождении его Ид. И Стоянович не вполне уверен, что это и есть абсолютное благо.
Стоянович, что бы там ни думали титовские сатрапы, вообще склонен не столько к пропаганде, к горячечным призывам, к указанию пути или хотя бы к указанию неверного пути (чем занимались почти что все его ровесники), сколько к чисто клинической диагностике посредством кинокамеры; точнее — посредством монтажа. Нам этот modus operandi, пожалуй, лучше всего известен благодаря тому случаю, когда диагноз стране поставила Муратова, вынеся его в заглавие «Астенический синдром». Стоянович занимается схожими вещами, и Готовац для него — с его опытом акциониста, с его анархизмом, с его стремлением к обнажённости существования — не столько единомышленник, сколько материал, один из уровней в той структуре, которую выстраивает в своём фильме режиссёр. Вновь прибегнув к той же терминологии, мы вправе принять, скажем, фигуру Готоваца — во всей её полноте — за то самое Ид; но есть ведь ещё кинохроника (со всеми историко-культурными контекстами, которые вслед за ней подключаются), эго, есть и супер-эго — представление общества о самом себе… И пусть даже Готовац оказывается центром в этой структуре — вокруг этого центра есть ещё несколько слоёв сознания, что с точки зрения кино означает несколько уровней повествования, будь то сюжетного (как ни размыт здесь сюжет) или чисто визуального.

Томислав Готовац
Стоянович, как и все его соотечественники, разумеется, довольно активно и остро переживал распад своего государства. В 90-х он получил всемирную известность благодаря 12-минутному документальному фильму «Скорпионы» — о трновских казнях в 1995-ом. И даже на этом чудовищном, шокирующем материале (смерть за смертью, смерть за смертью, все 12 минут) Стоянович умудрялся, как всегда, ставить основные вопросы о кино как о психологическом инструменте. В самом знаменитом эпизоде «Скорпионов» в камере, на которую боевики снимают казнь, садится батарейка, так что оператор просит палачей немного повременить, пока батарейку не заменят, — и возникают несколько секунд, когда смерть-за-работой делает перерыв в работе… Кроме того, по-видимому, как раз Стоянович (по крайней мере, насколько мне хватило брезгливости в этом разбираться) повинен в прославленном приезде Лимонова к Караджичу, именно он его туда притащил и снимал, как тот, бряцая и потрясая, прилюдно демонстрирует свою решимость посреди Сараево. Лимонов, видать, решил, что его хотят воспеть, а получилось как-то не про то, — получилось примерно про то же, про что был и фильм о трновских казнях: про то, что самое страшное в человеке — это то, что отличает его от животного, потому что человек с человеком делает то, что ни одно животное ни с каким животным никогда не сделает. Та самая человеческая надстройка к хищнику.
Однако, как ни горестно было Стояновичу от распада Югославии, возможно, он принимал происходящее чуть сдержаннее прочих, — не флегматичнее, разумеется, а именно сдержанней. Он, скажем так, чуть меньше других удивился. И потому его не кидало ни в какие политические крайности (в отличие от, например, Кустурицы, который чего только не заявляет и не провозглашает на сей счёт — это ж припомнить страшно), — именно потому, что неминуемость этого распада — по крайней мере, на взгляд самого Стояновича — была полностью выявлена ещё в «Пластичном Иисусе». Это тот самый диагноз, который, по-видимому, он уже тогда, в 1971-ом, и попытался поставить: Югославия как абсолютно разлаженный организм. Организм, который не может существовать как единый, который составлен из такого количества несовместимых исторических, национальных, ментальных элементов, что кроме как сверхусилием плюс случаем этот агломерат держаться не может.

«Пластичный Иисус»
Можно было бы, конечно, сказать, что диагноз этот у Стояновича, возможно, является не столько выводом из исследованного материала, сколько следствием тех правил, по которым он выстраивает свой фильм. Что если он пытается воссоздать психологическую клиническую картину, раскладывая её на части для анализа, то, разумеется, эти части окажутся разрозненны — не потому, возможно, что они и впрямь таковы, а потому, что так проведён анализ. Но, в конце концов, «Пластичный Иисус» действительно ведь органически вырастает из югославской «чёрной волны». Да, на немыслимом дотоле масштабе; и да, ни один другой фильм югославской чёрной волны не постигла такая участь. И всё же для тех, кто хорошо знает тот кинематограф, — хотя бы, например, фильмы учителя Стояновича, Петровича, — эта органическая связь: стиля, взгляда, подхода, — вполне очевидна. А это означает, что, в конце концов, сам способ анализа и способ видения, которые предлагает Стоянович, тоже местные. И что если он, анализируя Югославию, находит такие смыслы и приходит к таким выводам, то делает он это югославским же инструментарием. А значит, в конце концов, им виднее.