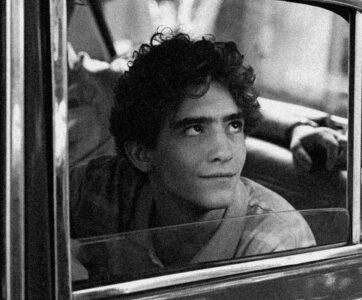Кинотавр-2012. Пять вечеров: Авдотья Смирнова
К сожалению, в прямой трансляции обсуждения фильма Авдотьи Смирновой «Кококо» произошел сбой, поэтому в запись и расшифровку не попали слова приветствия, а также вступительное слово Константина Шавловского.
Борис Нелепо: …у меня такое замечание. Мне кажется, в этом фильме Михалковой нечего играть, потому что ее героиня — это такая карикатура, такой собирательный образ из десяти сегментов не пересекающихся видов интеллигенции, потому что интеллигенция бывает разная: музейные работники, преподаватели университетов, сидельцы в «Жан-Жаке» и так далее и так далее, и так далее. А здесь получился какой-то собирательный карикатурный образ, который в моей голове никак не увязался.
Константин Шавловский: Что чему противоречит в этом образе?
Борис Нелепо: У меня в голове не укладывается героиня Михалковой, я не могу представить себе такого персонажа и мне кажется, что актриса не очень понимает, что играть. Потому что я вижу, с одной стороны, энергетику Трояновой, и какое-то провисание, с другой стороны. Я совершенно не верю тому, что я вижу в исполнении Михалковой, потому что я не понимаю и не вижу, какой это персонаж — совершенней шарж, совершеннейшая карикатура.
Василий Корецкий: Все, что ты перечислил, мне не кажется недостатком фильма, я примерно так же воспринимаю героиню Михалковой, но мне кажется, что то пустое место, которым она является, это то место, на которое должен встать зритель, потому что на самом деле этот фильм адресован четкой таргет-аудитории, он с ней достаточно умело, и, я бы даже сказал, цинично заигрывает. Я восхищен этой игрой, что сначала нам показывают некие метания интеллигенции, и вот эта игра с тем, что главная героиня то слабая, то сильная, то жертва, то хозяйка… И, в общем, ее тонкая и постоянная рокировка… рокировка самосознания этих людей, которые одновременно чувствуют свое превосходство над пролетариатом или люмпенами, неважно, над людьми, принадлежащими к другому классу, и одновременно чувствуют некий комплекс неполноценности и собственную слабость… И финальная сцена, в которой героиня Михалковой, интеллигентка, оказывается еще более живой, чем героиня Трояновой, — мне кажется, это мощный комплимент зрителю. Героиня Михалковой — это просто ворота, приглашение, место, которое должен занять зритель. Это и позволяет ассоциировать себя с героиней именному потому, что она недостаточно четко прописана, ей можно присваивать какие-то свои свойства и, стоя на ее месте, взаимодействовать с героиней Трояновой, которая тоже кажется мне достаточно карикатурной.
Константин Шавловский: Вы согласны, что героиня Михалковой — то, с чем должен ассоциировать себя зритель? Это так задумывалось или нет?

Съемки фильма Кококо. Реж. Авдотья Смирнова, 2012
Авдотья Смирнова: Нет. Я просто, честно говоря, не совсем понимаю, а зачем вам тут я?
Константин Шавловский: На самом деле мы хотели обменяться мнениями и у меня есть к вам вопросы уточняющие.
Роман Волобуев: На самом деле это формат пытки.
Авдотья Смирнова: Я поняла. Но, скажите, я понимаю, что разговор должен быть таким легким, веселым. Скажите вы вот все, здесь сидящие, вы правда думаете, что человек, который год снимал картину, вчера первый раз показал ее зрителю, а сегодня с утра, общается с вашими коллегами… На самом деле это вопрос к вам, Костя, как к моему приятелю. Вы правда считаете, что ваши более или менее изысканные словесные кудри этому человеку должны быть важны и дороги в этот момент?
Константин Шавловский: Ну мы можем закончить прямо сейчас.
Авдотья Смирнова: Я совершенно не хочу устраивать никакой демонстрации, я на самом деле на полном серьезе спросила, нужна ли я здесь. Потому что, если не нужна, если вы хотите поговорить между собой, я бы с вашего позволения пошла бы и поела и выпила, потому что мне это за весь день не удалось, вы меня извините, конечно. При этом я понимаю, что вы здесь тоже работаете и выполняете свою работу. Если для выполнения этой работы я нужна, то я готова к кооперации, но я не хочу вам позволять просто меня мучить, потому что я очень устала, правда.
Роман Волобуев: У меня есть альтернативное предложение. Давайте вместо нашей традиционной истории, когда мы вываливаемся отсюда в час ночи, закончим это все за 15 минут, потому что на самом деле ситуация очень простая. Потому что опять эта игра, в которую мы играем каждый раз — делить это на развлекательное и умное. Боря, не обижайтесь, но, когда Бергман снимал «Сцены из супружеской жизни», которые шли с чудовищными рейтингами и в Швеции подскакивал процент разводов, а телефон Бергмана потом убирали из телефонной книги, потому что ему звонили за советами, вот это развлекательное было или чего? Я коротенько скажу, вы меня поправьте, если я говорю какую-то ерунду. С этим фильмом, по-моему, все невероятно просто. Интеллигентское русское кино, которое цеплялось и пыталось выжить все это время, у него это не получалось, потому что оно по старой привычке пыталось делать вид, что что-то знает, что сейчас мы вас научим и что-то расскажем. Чем этот фильм прекрасен, тем, что он меняет диспозицию. Большой вопрос, есть ли сейчас интеллигенция, или вот сейчас последнее поколение состарится, а следующее уже будет европейского типа интеллектуалы, для которых важнее образ жизни, чем миссия. Это может быть история про сословия. Перекрестный пример: я прилетел вчера, и меня немедленно в аэропорту приняли милиционеры. Сначала сказали, что я похож на человека в ориентировке, я сначала хотел посмотреть на того человека на ориентировке, на которого я похож, а потом из интереса за ними пошел. У меня, видимо, был сонный вид человека, с которого можно снять какие-то бабки, был помятый. И, когда мы дошли до отделения полиции и там же возникло желание потрогать мою сумку, я вытащил пресс-карту, и они стали обращаться ко мне по имени-отчеству. Спросили, правда, принимаю ли я наркотики, я соврал, отправили домой. Вот это история про сословия. Вот, главный трюк, который происходит в фильме в конце — Михалкова же чудовищно не хочет пользоваться своими сословными привилегиями. По-моему, самое лучшее в фильме это его финал, когда мы подходим к точке, когда режиссер по старой советской или русской традиции должен дать какой-то ответ, она разводит руками. Режиссер должен нам как бы рассказать о том, как интеллигенция должна помириться с народом, о том, как применить правое полушарие. И то, что ответа на этот вопрос нет, особенно нет здесь, это очевидно, и это та точка, в которой кино вырывается из истории застольного разговора и интеллигентской попытке что-то объяснить в настоящее большое кино, которое могут смотреть разные люди, за что большое спасибо, у меня, честно говоря, все.
Константин Шавловский: Не знаю, Дуня, это был такой нокаут, но он сработал, меня вышибло абсолютно. Поэтому я слагаю с себя полномочия модератора, поэтому, если это не нужно вам, мы можем обсудить это как-то между собой. Тем более, что какие-то важные точки мы обсудили.
Авдотья Смирнова: Костя, тут совершенно не на что обижаться.
Константин Шавловский: А мне не обидно.
Авдотья Смирнова: Если есть какие-то вопросы, я правда постараюсь на них ответить честно и как могу. Просто я не знаю, как объяснить этот день кому-то еще.
Роман Волобуев: Вообще, невероятная глупость спрашивать автора про его фильм. Автор же ничего не знает.

Съемки фильма Кококо. Реж. Авдотья Смирнова, 2012
Ричард Бондарев: Здравствуйте. Меня зовут Ричард Бондарев, я актер. У меня вопрос. Насколько сильно отличался фильм от сценария и насколько импровизация актера и работа в кадре поменяла этот сценарий.
Авдотья Смирнова: Там есть довольно кардинальные изменения по отношению к сценарию, но они монтажные. Просто в монтаже ты ищешь ритм картины, это известно. Там мы очень много чего переставили, начало в конец. В монтажном отношении он от сценария отличается. Что касается текстуально и импровизационно, не очень много изменений. Мы предполагали изначально и договаривались с актрисами, что, если им текст в чем-то неудобен, то они совершенно вольны его менять. Там были какие-то слова, на которых я могла настаивать, но вокруг них, как правило, не возникало никаких вопросов.
Ричард Бондарев: А еще вопрос по поводу этого потрясающего финала, он был в сценарии?
Авдотья Смирнова: Нет, это тоже монтажное. Сценарий кончался воплем Вики: «Не отдавайте меня ей, пожалуйста». А дальше в монтаже просто, когда стали смотреть дубли. Это была очень тяжелая съемка, потому что актриса у тебя целый съемочный день в клетке, и это тяжело и ей, и всем остальным, потому что я переживаю за товарища, который находится в стрессовой психологической ситуации. И, когда мы стали отсматривать дубли, а их было порядка шестнадцати, тогда и придумался такой финал.
Константин Шавловский: Я не хотел бы позволить загубить тот формат, который здесь родился, поэтому, мне кажется, нет смысла превращать происходящее здесь в пресс-конференцию № 2.
Борис Нелепо: Давайте я все-таки попробую испортить праздник, раз уж у меня такая роль.
Авдотья Смирнова: Вы считаете, что праздник начался?
Борис Нелепо: У вас вчера был единственный показ на всем фестивале, собравший полнейший аншлаг. Ни одному фильму на этом фестивале не аплодировали так и не реагировали так живо на то, что происходит в фильме. По-моему, это если не праздник, то ваш успех как режиссера. Если по гамбургскому счету, я понимаю, почему по сравнению со многими другими фильмами ваш фильм смотрится настоящим фильмом, где прекрасные актеры, есть режиссура и все остальное. Да, конечно, праздник. Но я все-таки хочу такой вопрос задать, вы меня сразу поправьте, если я что-то говорю неправильно или не понял. Все мы помним очень болезненную, кровавую, очень противоречивую, поссорившую множество людей дискуссию по поводу вашего прошлого фильма, опубликованную на портале OpenSpace, этот овальный стол, где с точки зрения идеологии обсуждали ваш предыдущий фильм «Два дня». В этом фильме — я не зря в начале использовал слово «карикатура», потому что, если мы уходим из пространства того, как это работает, то там много смешных моментов, я на многих шутках смеялся, как это и было запланировано. Но когда первое впечатление уходит, приходишь домой и начинаешь думать, о чем был фильм, начинаешь смотреть, как это все построено. Ваши герои — очень умные, милые, обаятельные, прорисованные до мелочей представители интеллигенции. Когда мы смотрим деталь за деталью, понимаем, что это блаженные, которые не могут даже порядок у себя на кухне навести, чайник отмыть, но при этом поучают государство и других. Мне этот месседж, который, по-моему, очень четко в фильме прописан, очень четко считывается, мне дико неприятен. Простите за прямоту, что я так говорю.
Авдотья Смирнова: Пожалуйста за прямоту. Давайте я вам попробую ответить вполне серьезно без ерничанья и скидок. Я не знаю, для чего вы в эту кассету заплели круглый стол на OpenSpace, но, если вы думаете, что после этого овального стола я решила выяснить отношения с интеллигенцией и показать ей язык, скорчить ей рожу, то это не так. Я это говорила сегодня не один раз, наверное, просто я не помню уже — для меня это картина о языке, о том, что происходит внутри языка. Потому что мне кажется, что последние лет
Владимир Лященко: Я хотел уточнить, продолжая это обсуждение, мне показалось, что есть там такой конфликт между вторжением в жизнь другого человека и необходимостью жить вместе. Потому что человек не живет один, а живет всегда в социуме, ну и вообще, оставаясь один, он тянется к другому человеку. И не очень понятно, фильм не разрешает этот конфликт, как же организовать совместную жизнь так, чтобы не кидать друг в друга табуретами не по идеологическим основаниям. А со стороны героини Михалковой возникает такая ситуация, когда интеллигентская неспособность сказать прямо, когда Вика предлагает: «Надоело? Скажи, иди отсюда». Ей проще задушить подушкой, чем сказать такую вещь в силу воспитания и привычки. Как этот конфликт может разрешаться?
Авдотья Смирнова: По-моему, только путем долгих тренировок. Там же, понимаете, в чем дело. Помимо того, что вы сказали — интеллигентской невозможности что-то сказать, есть еще одна родовая черта, которая меня занимает — это инфантилизм в следующей форме. Мне кажется, что инфантилен человек до тех пор, пока он фактически не знаком с собой. Пока ему кажется, что он такой, такой, такой, такой, и его внутренний образ себя далеко отстоит от того, что ему говорят про него другие. И зрелость наступает человеческая тогда, когда ты понял про себя, что ты такой, такой, такой, а не этакий и не можешь от себя ждать того, сего, пятого, двенадцатого, что у тебя не получится. И после достаточно неприятного этого признания ты учишься принять себя таким. И мне кажется, что у нас с этим очень худо, в нашей части социума. И беда героини Лизы состоит в том, что она себя не знает. Мы когда разбирали и репетировали, я говорила, что это следующая история. У нас есть такая статистика жуткая по стране: у нас очень высокий процент возврата приемных детей в подростковом возрасте обратно в детприемник. Люди берут ребенка, усыновляют его, живут с ним, а потом наступает пубертат, в котором любой ребенок, твой, не твой, не адекватен. Они приходят в ужас и сдают его обратно. Я актерам говорила, что это история про ребенка, которого усыновляет человек, который в принципе к этому не готов, но ему кажется, что он готов. Это я вам говорю как человек, который на самом деле много лет думал об усыновлении и даже однажды начал процесс оформления опеки. А потом я поняла, что, к сожалению и к стыду, безусловно, я не потяну. Я не такая, я не умею, я не могу, к сожалению. Я бы очень хотела быть другим человеком, но, к сожалению, я тот человек, который есть. Мне кажется, что не только Лиза себе этого не сказала, мне кажется, что у нас все сословие себе этого не говорит.

Съемки фильма Кококо. Реж. Авдотья Смирнова, 2012
Владимир Лященко: Когда я смотрел всю эту историю, я видел изложение всего, что происходит в жизни с человеком очень интеллигентным, очень ответственным, который не справился с ситуацией совместного проживания, когда ты пытаешься образовывать другого человека в соответствии с культурными ценностями, но наталкиваешься на агрессию и тут же, не знаю, насколько быстро, но сдаешься.
Авдотья Смирнова: Поэтому ответ на ваш вопрос, от которого я, видимо, в сторону немного отползла, хотя мне кажется, что я на него отвечала. Ответ состоит в том, что для того, чтобы соблюсти другого человека, нужно узнать себя и познакомиться с собой.
Владимир Лященко: Третий момент — а насколько важно отказаться от этой патерналистской модели одновременно с научно-исследовательским отношением…
Авдотья Смирнова: Абсолютно так. Я именно так и думаю. Я в своей жизни один раз прошла через то, что решила осчастливить человека. [Жизнь] отомстила мне страшнейшим образом и только спустя годы я поняла, как я была виновата в своих патерналистских «я знаю, как тебе надо». Это на самом деле про это. Мы с Аней Пармас, моим соавтором, обсуждали, что для нас это вообще история про мезальянс. Всякий зрелый человек прошел в своей жизни через опыт мезальянса. Это может быть возрастной мезальянс, это может быть интеллектуальный мезальянс, это может быть географический мезальянс. Самый разный. Это очень травматичный опыт, очень. Но каждая сторона думает, что это травматично только для нее. Хотелось рассказать историю, что это травматично для обеих сторон.
Роман Волобуев: А можно я верну праздник? Дело в том, что вещи, про которые Авдотья Андреевна говорит, они довольно страшные. Страшные в личном плане и страшные, если их транспонировать на масштаб страны, потому что история про то, как интеллигенция учит всю страну жить, мы через нее проходим, проходим, проходим, и сейчас примерно тем же все вместе радостно занимаемся из автозаков. Сейчас это более комически скорее происходит, правда, неважно. Вещи довольно страшные. И, более того, когда фильм закончил сниматься, я брал у Анны Михалковой интервью, и мы говорили про вещи, которые для нее, как для актрисы, видимо, достаточно болезненные. Про то, как они трудно притирались с Трояновой, как сама Михалкова в процессе стала злее, могла наорать на кассира, чего в ней раньше не было. История страшная и проблематика в ней, даже если мы не касаемся детей-сирот, страшная. И все это довольно жутко и совсем не смешно. И история про то, что все наше протестное движение, скорее всего, несмотря на все наши какие-то нелепые старания, уткнется рылом в землю — она про то, что мы просто разговариваем на разных языках. И пока мы научимся на семантическом уровне использовать те же слова и понимать, как их понимают люди напротив, пока у нас не появится самоиронии… Потому что прекрасно, что героиня Трояновой, которая бухает и трахается с кем ни попадя, нам кажется цельным образом, а вот Михалкова, которая всего-навсего за Ходорковского, нам кажется злой карикатурой — это как в «Незнайке» было: всех ты похоже нарисовал, да только не меня. Понятно, что все это чудовищно неприятно, и мы видим, как было непросто актрисам. Тяжело. При этом это почему-то комедия, причем хорошая. И это какой-то невероятно светлый знак. И вот когда мы говорим про такое важное, например, понятие в русской политике, то человек, который в этом немножко понимает, но побольше всех нас, потому что болтается где-то там, мы разговаривали с ним и я его спрашиваю: «Слушай, а ведь ситуация с Ходорковским — это ведь не «Ричард III» и не «Крестный отец», а какая-то комедия Коэнов, когда кого-то ударили сковородкой, кому-то что-то пересказали не то, кто-то разозлился и сказал «Да оторвать ему голову» — да?» Он сказал: «Ну вообще — да». Мне кажется, важная точка — мы вообще склонны драматизировать, но важная точка для решения этой проблемы — это понятие жанра. Когда мы поймем, что на самом деле, например, отношения сословий у этой страны, и даже наше абсолютное лексическое несовпадение между разными сословиями, что на самом деле — это комедия. И возможно, даже не такая черная, как нам кажется.
Авдотья Смирнова: Спасибо большое, подхват был. Мы сидели как-то с Сережей Шнуровым, с которым мы очень близкие друзья и, я думаю, что вы все здесь догадываетесь, что он человек чрезвычайно не глупый и значительно больше своего сценического образа. И разговаривали с ним о том, о чем все разговаривают. И мы с ним обсуждали, почему вот туда уже не пойдем. Он мне сказал: «У них с поразительной скоростью исчезла самоирония». Я не могу в этом участвовать. Да и это, правда, это не эстетическая категория, это не эстетизм, не эстетство — «ах!». Да, страсти они вообще вульгарны, пошлы и так далее, и тому подобное. Но, мне кажется, что да, Рома прав. Что с нами происходит что-то жуткое, но я просто в силу темперамента не могу на это смотреть иначе, как со смехом.
Мы с Пармас начинали сочинить эту историю как драму и не могли написать ее пять месяцев. А когда мы решили, что это комедия, сценарий был написан очень быстро. И он, видимо, ждал этой вот интонации, именно потому что нельзя к себе относиться так серьезно. Обе героини мне в этом смысле очень, очень, очень знакомы и дороги.
Константин Шавловский: Я больше сейчас ни о чем думаю кроме того, что мы вас морим голодом и демонстрируем кудри.
Авдотья Смирнова: На самом деле тот разговор, который сейчас был, в том числе то, о чем вы говорили, Борис, это не в смысле, что я требовала комплиментов, нет. Просто, если есть серьезный разговор, то я с удовольствием в нем участвую, а если дурака валять, то это как-то в другой раз.
Константин Шавловский: Очень глупый вопрос. А можно как-то подумать, чтобы сценарий русской жизни тоже так поменять, потому что мы смотрим на нее как на драму?
Роман Волобуев: Это очень просто сделать, потому что в этом плане, я считаю неправильной позицию Шнура, потому что он дико умный человек и все понимает, и он говорит, что туда не пойдет, потому что у него есть чувство самоиронии, а у них нет. Меня тошнит от 90% вещей, происходящих в протестном движении, и половину этих людей я, придя к власти, просто запер бы в каком-нибудь месте. Более того, я считаю демократию в этом плане чудовищно уязвимой, потому что она не позволяет этого сделать. Но я, тем не менее, поскольку чувство самоиронии пока не утратил, и, мне кажется, что чем больше людей, которым это немножко забавно, и которые понимают, когда они выглядят как идиоты, останутся на баррикадах условных… Да и слово баррикады мы сейчас произносим с таким смехом. Чем больше людей там останется, тем больше шансов, что протестное движение не превратится в сборище оголтелых мудаков. Они такие громкие, но их всегда можно перешутить.
Авдотья Смирнова: Вы знаете, у меня вот какое соображение. Мы разговаривали как-то с моей близкой подругой и коллегой опять же про то же самое. В какой-то момент я сказала, что обязательно была бы там, если бы там шли люди, которые хорошо знают русскую историю и идут туда со знанием полной, абсолютной безнадежности. Знают и, тем не менее, туда идут. В это я готова поверить. В иррациональный этот ход, основанный на очень хорошем знании истории, на том, что это будет бесконечно. Про это, собственно, финал картины. Люди, которые действительно много читают книжек по русской истории и при этом считают, что это безнадежно, что из этого круга мы не выйдем, и что мы бесконечно ходим по кругу и, тем не менее, идут, потому что, если вы помните, первый выход сразу после выборов был такой: это было решение каждого индивидуального человека, который индивидуально для себя решил, что ничего не будет, они все равно выиграют, они все равно наебут и так далее, и так далее, но я сам лично все равно пойду и скажу, что не желаю это терпеть, мне это оскорбительно. И когда это было так, это было полно не только смысла, это было полно энергии, это была энергия индивидуальных воль, за каждой из которых стоит собственное зрелое решение. А когда это сборище необразованных позитивистов, которые искренне считают, что от того, что мы подержимся за руки и вообще почувствуем, как нас много, и при этом с дикой агрессией… Понимаете, в чем дело, но ведь «Уралвагонзавод» — это же смешно, но посмотрите, что из этого устроили. «Уралвагонзавод» стал символом просто не людей, а плодов вивисекции, это остров доктора Моро, который образовался вдруг на одном отдельно взятом «Уралвагонзаводе». Ну это бред сумасшедшего. Ох, если бы этого не было в интернете, я бы вам развернуто рассказала, ну неважно. Один очень умный человек сформулировал это так. Я говорю: «Ты понимаешь, что я не могу больше слушать это презрение, это невыносимо, они не любят эту страну». Он говорит: «Это неправда, они ее любят. Они не любят народ». Это важное уточнение. Поймите, я ненавижу народ, но его часть, я чувствую кровную связь с ним. Я его ненавижу и в то же время я им восхищаюсь абсолютно. Я так убеждена, что эти люди с условного «Уралвагонзавода», что там внутри есть и такие страсти, и такие мысли, и обстоятельства, и соображения, и свои шутки по этому поводу. Просто видеть в них некую биомассу я не хочу, я не желаю так думать, я так не чувствую, я не верю. Мой любимый пример. Вы молодые, может, этого не помните. Но те из вас, кто постарше, это помнит. Был такой эпизод, когда Борис Николаевич Ельцин не вышел в шеннонском аэропорту в Ирландии, это был большой скандал международный. Не вышел по состоянию здоровья, скажем так. Все обсуждали, какой это ужас, стыд, позор и кошмар, но в какой-то момент у человека зажигался огонь легкого безумия в глазах, и люди начинали абсолютно счастливо хохотать, потому что не вышел — и правильно. Потому что нефиг ему к ирландцам выходить, если он в это время спит после обеда. Понимаете, вот это был настоящий русский человек. Я вообще обожаю Бориса Николаевича не только как историческое лицо, я его обожаю как совершенно символическую фигуру, как художественный образ и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что это плоть от плоти. И вы хотите мне сказать, что я должна вот таких людей считать, называть «Поклонная» или «Уралвагонзавод»? Или я должна, наоборот, как моя героиня, идти и немедленно их просвещать? Просвещать, объяснять и тянуть в свою жизнь? Мне кажется, что это совершенней тупик. Мне кажется, что чем скорее мы отстанем друг от друга, тем счастливее будет у нас жизнь в стране в общем и целом.

Съемки фильма Кококо. Реж. Авдотья Смирнова, 2012
Роман Волобуев: Кстати, если посмотреть на одну из самых стабильных демократий в мире — это американская, которая позволяет в стране, в которой все это происходит, творить все что угодно во всем остальном мире. У них гениально все придумано внутри. У них население поделено на две одинаковые части, которые ни в чем друг с другом не сходятся. Одни верят в бога, не верят в Дарвина и считают, что пидорасов нужно посадить всех. Другие считают, что бога нет, человек произошел из обезьяны и так далее, и они не договорятся никогда. И они на протяжении уже 150 лет и все более с наступлением как бы политкорректности это поразительный парадокс, что в тот момент, когда все больше нельзя, они все больше не могут разговаривать между собой. У них есть два канала, которые просто поливают друг друга грязью, они занимаются этим в круглосуточном режиме, более того, вся страна занимается этим в круглосуточном режиме. И это великая глупость именно потому, что эта страна не в состоянии взяться за руки и невероятно внутри себя стабильна. Возможно, фокус здесь как раз в этом.
Василий Корецкий: Рома, представьте себе эту ситуацию здесь. Это республиканское правление американское основано изначально на чудовищном страхе первых колонистов друг перед другом. Вот они высадились не там, где был суд или была полиция. И в ужасе, что они просто друг друга перебьют, они придумали закон, который просто вынуждены соблюдать, потому что страх перед ближним гораздо ближе страха перед комьюнити.
Роман Волобуев: А как же поправка, когда человек может ружье в доме иметь, за которую они бьются все время?
Василий Корецкий: И вот представьте себе, что у нас из этой ненависти взаимной вырастет крепкое государство.
Авдотья Смирнова: У нас с ненавистью взаимной все в порядке.
Василий Корецкий: Нужно просто придумать, куда ее деть.
Авдотья Смирнова: Нам нужно просто разойтись по разным углам, ты, вот на тебе карандаш и бумагу, сядь, порисуй. А тебе на вот, возьми кубики. И вот ты слушаешь «Незнайку на Луне», а тебе вот, пожалуйста, «Бременские музыканты».
Василий Корецкий: Мы все ощущаем взаимную ненависть разных групп к другим, которая постоянно подогревается государством и СМИ.
Авдотья Смирнова: Это неправда. Не то, что подогревается, а то, что мы чувствуем ненависть. Я глубоко убеждена, что ненависть находится только внутри нашего сословия. Я абсолютно убеждена, что ни на каком «Уралвагонзаводе» никакой «Жан-Жак» не ненавидят, поскольку не знают о его существовании. Нету там никакой ненависти, они нас в гробу видели. Ребята, вы знаете, какие у них зарплаты? Какой «Жан-Жак»? Какая ненависть к нам? О чем вы? Это мы ненавидим друг друга, их, это мы друг другу устраиваем аутодафе, этот нерукопожатный, этот, значит, подстилка режима, этот коллаборационист, этот сбитый летчик. Это мы все делаем. Они этого не делают, им совершенно не до нас, у них там этот гриб квасится.
Роман Волобуев: Если говорить про хождение по кругу, мне все-таки кажется, что идиотизма в выходе на баррикады гораздо меньше. Мне кажется, что все же не круг, а с очень, очень тонким зазором спираль, потому что, если мы возьмем на 20 лет назад, и вспомним, что все люди, которых взяли в
Авдотья Смирнова: Знаете, мы не только поэтому не в Советском Союзе. Мы не в Советском Союзе, поверьте мне как человеку, который старше вас, я все-таки в Советском Союзе прожила 17 лет. В совсем-совсем Советском Союзе. А если учесть все последующее, то значительно дольше. Вы просто не представляете себе, до какой степени вы не в Советском Союзе. Конечно, вас бесит, что в школах нашим детям приходят и что-то вякают, но наши дети не пишут, как я писала, ленинский комплексный план.
Борис Нелепо: Но было в любом случае интереснее и содержательнее, чем при Путине.
Авдотья Смирнова: Да? Вы уверены? А я-то расчерчивала эту тетрадку и заполняла ее каждые два месяца, и вы мне не рассказывайте, что это было интересно. Вы мне не рассказывайте. Я поступила на филологический факультет МГУ в 1986 году, и у меня, к вашему сведению, русского языка, моего профессионального предмета, на который я поступала, было, предположим, в семестр, там, 100 часов, а истории КПСС, по которой у меня тройка, и в итоге я вылетела, потому что не смогла ее пересдать, 600 часов. Поэтому не надо мне про это рассказывать.
Роман Волобуев: Я к чему это сказал, к тому, что через 10 лет очень страшно разочарованные, потолстевшие и увидевшие, что у власти все те же что сволочи, мы посмотрим назад, и обнаружим, что живем не в стране под названием РФ, и не в условной путинской или не путинской Росии. Мы ужасом обнаружим и с радостью будем перемигиваться, что мы живем немножко в другой стране. Она будет не настолько лучше, как нам хочется. Но, возможно, настолько лучше, насколько условный «РФ» лучше условного «СССР». Поэтому я считаю, что это не замкнутый круг, а спираль.
Константин Шавловский: Я вклинюсь на секундочку, потому что реплика про кубики и рисуночек, она потеряется, и к фильму таким образом немного вернусь — я правильно понимаю, что в фильме нет взрослых?
Авдотья Смирнова: Нет, на мой взгляд, там есть один взрослый человек, это Кирилл, бывший муж Лизы.
Константин Шавловский: Очень несимпатичный.
Авдотья Смирнова: Ну и что, вы считаете, что взрослые люди все симпатичные? Он дает ответы взрослые. Она спрашивает, из каких соображений ты нарезаешь круги вокруг меня и вмешиваешься в мою личную жизнь. Он отвечает, что из чувства долга. Ну вот так.
Василий Корецкий: Обе эти героини вытворяют друг с другом это не из чувства долга?
Авдотья Смирнова: Нет. Они делают это из чувства любви. В том-то и дело, что мы никогда так не бываем страшны для другого человека, как когда мы его любим. Вот тут мы совершаем самые страшные вещи, как мне кажется.
Владимир Лященко: Да, чувство долга тем и отличается. К вопросу о том, как выходить на баррикады и когда ты не веришь, что что-то изменится. Люди, которыми первыми выходили, верили, что сейчас они это закончат, и начнется совсем другая жизнь. Мне кажется, что у нас этого разочарования может не произойти, потому что мы с другим пониманием ситуации выходим.
Роман Волобуев: Мы надеемся себе чуть-чуть что-то отгрызть, а в процессе и всем остальным. Хотя думаем, конечно, только про себя.
Авдотья Смирнова: Мне вообще кажется, что мы излишне себе симпатизируем.
Владимир Лященко: Героизация собственного образа вообще сильно вредит людям.
Авдотья Смирнова: Во-во.
Константин Шавловский: История о том, что самоирония и ее отсутствие очень мешает, я тут подумал, что если взять, например, Германию. Они же там долго-долго не шутили, копили энергию, росли. Даже сейчас они как-то травматично к этому относятся.
Роман Волобуев: Они сейчас очень хорошо про это шутят. Я сейчас забыл, у кого в короткометражке было, когда пациент приходит в кабинет к психоневрологу, он его бьет по коленке молоточком, тот подскакивает и делает «заг хайль», психоневролог ему дает пощечину, потом опять бьет его по коленке молоточком, это продолжается.
Константин Шавловский: Но он же в шестидесятые никак не мог появиться, много должно быть времени пройти.
Роман Волобуев: Да, спасибо Баадер и Майнхоф, они решили этот вопрос, превратили Германию в полицейское государство и научили шутить про это.
Авдотья Смирнова: Послушайте, но у нас было достаточно времени быть серьезными, я уж не буду углубляться далеко к Петру I или к татаро-монголам, но вообще-то у нас был сменовеховский дискурс, который ровно вот про это. Сменовеховскому дискурсу, я извиняюсь, но на сегодняшний день сто лет. Мы вполне уже можем начать шутить. Надо просто прочесть все, что по этому поводу сказали серьезное. Поверьте, там были ребята не глупее нас с вами.
Константин Шавловский: Мы должны подвести итог, и это очень здорово на самом деле. Я сначала как-то растерялся, а потом, мне кажется, очень правильно, что мы как-то к обсуждению русской жизни и современности, чего мы так пытались добиться от других режиссеров и так и не выруливали на эту тему. И то, что мы заканчиваем на этом, кажется, очень правильно, коллеги. Пойдемте выпьем.
Материалы по теме:
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Светлана Баскова
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Василий Сигарев
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Михаил Сегал
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Борис Хлебников
Читайте также
-
Маска первобытности — Адам Драйвер
-
Кыштымский карлик, молочная девочка и якутский самосуд — Shnit’2025
-
Сокровенные люди — Антон и другие
-
Побороться за пространство — Интервью с Сергеем Мирошниченко
-
Хачапури и кино — «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова
-
«Окно в Европу»’2025 — Конкурс неигрового кино