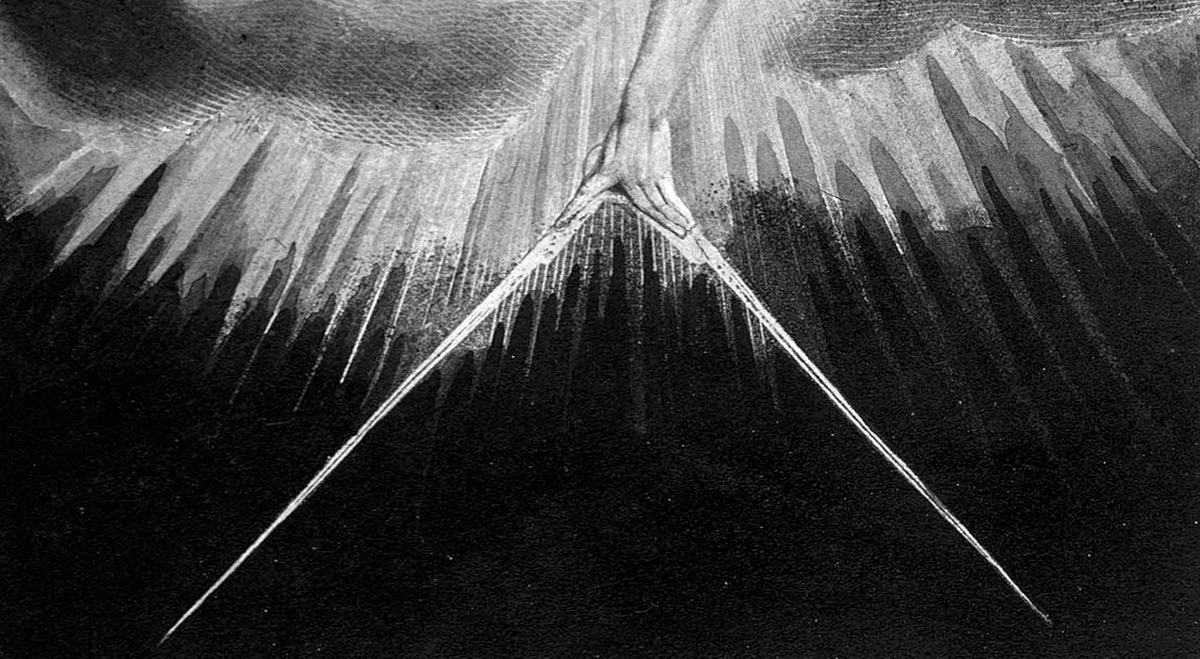Маленький рыцарь
Документальный фильм Стига Бьеркмана «Трансформер: Портрет Ларса фон Триера» (1997) начинается, без всякой преамбулы, со слов самого героя, который недобро улыбается в объектив слегка подрагивающей камеры: «Я с удовольствием заявляю, что все, что про меня говорили или писали, — ложь».
СЕАНС — 27/28
Это можно сказать и о документальном фильме Бьеркмана, и об этой статье, и обо всем, что самому фон Триеру может прийти в голову сказать о себе в будущем. Тем не менее это важно знать всем, кто интересуется Ларсом фон Триером — и, возможно, это единственная правда, которую можно о нем сказать. В том же документальном фильме он называет свою жизнь «сфабрикованной»; но Петер Йенсен, много лет являющийся продюсером фон Триера, утверждает, что тот никогда не лжет. Парадокс этот, однако, можно разрешить, стоит лишь предположить, что жизнь и работа Ларса фон Триера предстают перед миром как единое художественное целое; а все художественные произведения суть вымысел и объект для многочисленных толкований. Его монтажер и соученик по киношколе Томас Гисласон в том же документальном фильме описывает фон Триера как «веселого плута». Исполнитель главных ролей в двух фильмах фон Триера Эрнст-Хуго Ярегард считает, что тот выступает «яростным оппонентом любых интеллектуальных авторитетов». Сам фон Триер отзывается о себе и о своей работе как о «провокации». Петер Йенсен считает, что «его преданность [делу] тоже средневекового порядка. Он — рыцарь. Маленький рыцарь». И эта последняя оценка может служить своего рода ключом к тексту под названием «Ларс фон Триер»: идеалист и верующий, которому ведомы страдания истовой веры и который без устали сражается за свои идеалы. В отличие от Ингмара Бергмана, чьи фильмы рассказывают о муках неверующего и стремлении уверовать, все картины фон Триера вопиют о муках верующего, стремящегося эту веру утратить.

Ларс Триер — приставка «фон» была им добавлена к фамилии по примеру Эриха фон Штрохейма — родился 30 апреля 1956 года в Копенгагене, в семье (по словам Лучии Боццолы) «радикальных, закоренелых, оголтелых коммунистов». О своем детстве фон Триер вспоминает: «Думаю, я был даже слишком свободен, а это всегда причина внутреннего раздрая… Мне не хватало любви, которая опирается на какие-то четкие абсолютные истины, а ведь это тоже форма любви».
В детстве фон Триер полагал, что дозволено ему все, кроме «чувств, религии и радости» — трех вещей, которых так много в его более поздних, бунтарских фильмах. В возрасте 11 лет он берет у матери камеру Super 8 и начинает снимать короткометражки, а годом позже снимается в скандинавском телесериале «Тайное лето» Clandestine Summer, 1968). Он предоставлен самому себе, бросает школу и вновь берется за учебу, пьет вино, смотрит фильмы. К моменту поступления в Копенгагенскую киношколу в начале 1980-х он, по словам Гисласона, «уже знает всю классику кино, знает наизусть». Тогдашний фон Триер самому себе кажется enfant terrible.
Воспользовавшись языком «высокой церкви», он стал одним из создателей школы, иронически названной им «Догма», — этакого эквивалента панк-рока в кинематографе.
Когда он рассказывает о своей работе в кино, понимаешь, что в киношколе ему открылось специфическое наслаждение, и с тех пор он испытывает его всю жизнь — наслаждение от нарушения правил и традиций. Ему удались и его ранние фильмы, несмотря на невнятность сюжетов, застенчивый голос за кадром и странные манипуляции со звуком и изображением. А может, они удались ему именно благодаря всему этому. И все равно в более поздних картинах фон Триера поражают и съемки дрожащей камерой, и явно импровизированные реплики, и телесериальное лицедейство в игре актеров, и слишком натуральный секс, и застывшие пейзажи, время от времени останавливающие повествование. Смерть матери, о которой фон Триер говорит с некоторым облегчением, стала, по-видимому, переломным событием в его жизни. Даже когда он избрал для себя формализм католичества, его фильмы сохранили присущее «низкой церкви» стремление к спонтанности, темпу и импровизации — в противоположность его ранним картинам, пронизанным манией тотального контроля. Воспользовавшись языком «высокой церкви», он стал одним из создателей школы, иронически названной им «Догма», — этакого эквивалента панк-рока в кинематографе. И еще один парадокс: даже отвергнув родительские коммунистические идеалы, он — вместе с продюсером Петером Йенсеном — использовал их как основу для собственного киноколлектива, чтобы отвоевать контроль над кинопроизводством у датского правительства. Хотя фильмы фон Триера суть сложная диалогическая экстраполяция его собственной парадоксальной натуры, они в целом повторяют развитие творчества Т.С. Элиота: сначала в деталях изображая пустоту, а затем превозмогая ее с помощью веры.

Ещё один камешек в наш ботинок
Первые три фильма фон Триера — снятые с ослепительной, барочной виртуозностью — составляют трилогию о Европе, убаюканной и уснувшей посреди воцарившегося в ней хаоса и смерти. Во всех трех фильмах герои (или антигерои) — идеалисты, уверенно ступающие в зловонное болото с твердым намерением восстановить справедливость, но, как указывает фон Триер, «можете быть уверены, что когда они все исправят, все снова пойдет наперекосяк, и получится, что они тоже поступали неверно». Фон Триер вновь и вновь приходит к мысли о том, что невозможно противостоять злу, не преумножая его, — мысль греховная, но он умышленно внушает ее зрителям.
Мы понимаем, что фон Триер никогда не говорит прямо, что он всегда иносказателен, и при всей своей неизменной искренности — всегда немного придуривается.
Сюжет фильма «Элемент преступления» (1984), в котором причудливо смешаны Кафка и Борхес, разворачивается в лабиринтах абсурда, где детектив с символическим именем Фишер — т. е. «рыбак» — перевоплощается в преследуемого им серийного убийцу Гарри Грея. Падение Фишера — результат его собственной слепой веры в постулаты, изложенные в труде по криминалистике его бывшего учителя Осборна. «Я не остановлюсь до тех пор, пока не пойму. Я должен делать все по книге», — говорит Фишер своей подруге-проститутке Ким, которая отвечает, что этот путь не для нее. Гипнотизер, он же рассказчик, который сам вверг Фишера в эту словно привидевшуюся в кошмарном сне Европу, говорит: «Боюсь, я тоже за тобой не пойду, Гарри» (обращаясь к нему по имени убийцы). На самом деле, слепая вера в правильность избранного им метода уводит его от всех нас, потому что в итоге он становится убийцей детей. Помимо всего прочего, в «Элементе преступления» фон Триер подвергает критике любую форму фундаментализма (религиозного, политического, художественного) и пытается оценить, не без иронии и самоуничижения, чему же его научили в киношколе. В фильме нет ни насилия, ни поножовщины, есть только болезненножелтушное изображение и затопленные, разрушенные декорации. Так создается образ самого зловещего и ужасающего мира из всех созданных в кино за последнее время.

Его второй фильм, «Эпидемия» (1987), не продается в США, что обидно, ибо это блестящий и очень красивый фильм. Эта картина к тому же с тезисной четкостью предъявляет триеровскую философию кино и его методы работы, с помощью которых он пытается реализовать свои теории. В этом фильме фон Триер и Нильс Ферсел (соавтор сценариев в фильмах «Элемент преступления», «Центропа» , «Королевство» и «Королевство-2»), играющие самих себя, трудятся над сценарием о некоем докторе Месмере, который пытается остановить эпидемию и не догадывается о том, что он-то и есть источник заразы. Эта история раскрывается в изысканном «фильме в фильме» и продолжается до тех пор, пока болезнь, через загипнотизированную девушку, не передается самим сценаристам (вымысел оживает и проникает в реальность) и продюсеру, которому они пытаются продать свой сценарий. В «Эпидемии» нашли свое отражение два индивидуальных стиля режиссера: с одной стороны, «фильм в фильме», с его умопомрачительной красоты выстроенными кадрами, с другой же — ручная камера, естественное освещение и сценарий истории о писателях, написанный за пять дней. Здесь же мы узнаем о фобиях самого фон Триера (подземные помещения, самолеты, болезни, больницы), о навязчиво преследующих его темах (идеализм, истина, индивидуализм), о его методах работы над сценарием (наброски на стенах, иронические отсылки, использование в качестве материала своих собственных страданий — равно как и чужих) и о его эстетических воззрениях. В своих фильмах он сознательно нагромождает разнородные элементы — волнующая музыка Вагнера сопровождает распространение чумы, искренность обрывается неприкрытым цинизмом, и наоборот. Мы понимаем, что фон Триер никогда не говорит прямо, что он всегда иносказателен, и при всей своей неизменной искренности — всегда немного придуривается. Поза самозащиты, характерная для его поколения кинематографистов (например, для Джармуша, Линклейтера, Тыквера, Аронофски). В каком-то смысле «Эпидемия» — это документальный фильм о нем самом.
Найденный фон Триером религиозный акцент, однако, не делает его взгляд на жизнь сколько-нибудь более позитивным.
В снятой для датского телевидения «Медее» (1988) создана похожая атмосфера нависшей хворобы, воплощение черного сердца волшебницы Медеи. Фон Триер совершенствует трагедию Еврипида (повидимому, при посмертной помощи Карла Дрейера), отменяя финальный прием деус ех мачина и рассказывая (скорее визуальными средствами, чем вербальными) историю волшебницы-детоубийцы. Прекрасная невеста Ясона Главка обретает в этом фильме имя и голос и предстает центральной (и зачастую обнаженной) фигурой, хотя в оригинальной греческой трагедии она почти не появляется. Участие одного из детей Медеи в собственном повешении доводит до кульминации ключевую автобиографическую тему, а именно: дети приносятся в жертву эгоистичным желаниям взрослых. В «Медею» фон Триер перенес многие образы из «Элемента преступления» (развевающиеся на ветру простыни, умирающие лошади, мертвый штиль). Этот фильм, — возможно, самый красивый и элегантный у фон Триера, — ныне практи чески невозможно увидеть в США, за исключением редких показов по кабельному телевидению.
Фильм «Центропа» (1991), впервые привлекший к фон Триеру внимание мировой аудитории, рассказывает историю молодого американца, который, приехав в Германию сразу после Второй мировой войны, работает проводником в спальном вагоне. С его стороны это своего рода жест доброй воли и символ пацифистского невмешательства, но в конце концов герой каждым свои поступком невольно пособничает чужим преступным планам. Критики зачастую сбрасывают этот фильм фон Триера со счетов как полностью рассчитанное, академическое упражнение; но за уэллсовской виртуозностью стиля я явственно различаю кипение страсти автора, возвышающего свой голос против иностранной политики США — и сомнамбулически безропотной Европы: романти ческий крик бессильной ярости и отчаяния. Ошеломляющие визуальные противопоставления придают повествованию невероятную выразительность: протагонист Лео вместе со зрителем (с помощью зловещих обращений к нему гипнотизера-рассказчика) то погружаются, то выныривают из кафкианского сна — сон черно-белый, явь цветная. «Центропа» — это фильм о Европе, которая вот-вот очнется от кошмарного сна, и, хотя формально речь идет о послевоенном восстановлении Германии, у зрителя возникает ощущение, что речь идет о сегодняшнем ступоре общества потребления. Что интересно, в картине говорится о сотрудничестве римско-католической церкви с нацистами, — той самой церкви, к которой фон Триер примкнет несколько лет спустя.

Режиссер смеется над собой и стремится убежать от голоса разума, как любой романтик с времен Уильяма Блейка.
«Королевство» (1994), телевизионный мини-сериал, который можно было бы назвать режиссерским tour-de-force, рассказывает о населенной призраками больнице и знаменует переход фон Триера от одной кинематографической манеры к другой. Этот фильм — развернутая сатира о высокомерии разума и отрицании духовности. Хотя здесь я коснусь этого фильма лишь поверхностно, он может стать прекрасной отправной точкой для всех, кто хочет ознакомиться с творчеством фон Триера, поскольку сюжет этого фильма довольно прямолинеен (хотя и не традиционен), да и шокирующих моментов в нем немного (за исключением финальных сцен обеих частей). Нельзя не оценить и очень смешной черный юмор в стиле Воннегута, особенно во второй части сериала. В «Королевстве» мы видим, как фон Триер переходит от формализма к… Назовем это догматической неформальностью.
Фильм «Рассекая волны» (1996) открыл его трилогию о святых дуро чках, юродивых — женщинах, жертвующих всем и обретающих святость. Ян, чужак в шотландской общине с суровыми нравами, после несчастного случая оказывается парализованным и просит свою бесхитростную и набожную жену, Бесс, спать с другими мужчинами и рассказывать ему об этом, — что и приводит ее в финале к мученической смерти. Найденный фон Триером религиозный акцент, однако, не делает его взгляд на жизнь сколько-нибудь более позитивным. Намекая на «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена, фон Триер как-то заметил: «У меня в глазу осколок того зеркала, что смастерил тролль… Кажется, был такой мальчик, которому в глаз попал осколок зеркала тролля, и все стало казаться ему уродливым».
Однако фон Триер не просто видит уродство во всем; он пошел дальше. Судя по всему, он и есть тот самый тролль, что запускает осколки — нам в глаза. Может быть, это необходимо в наше время, когда европейский кинематограф пытается конкурировать с прибыльной голливудской сентиментальностью. Картина «Рассекая волны», конечно же, так или иначе ранила чувства каждого из нас, но, как правило, никто не спорит с тем, что это высокое художественное достижение. Крики восторга и возмущения, адресованные фильму в Каннах, служат напоминанием о том, что цивилизация предпочитает видеть своих гениев мертвыми и надежно «музеефицированными». Тема, скрытая в ранних работах фон Триера, теперь становится явной: религия (и, в частности, вера) — это не только опора или наркотик; это еще и тяжкая ноша, и ужасная тайна. Однако и иронии здесь нашлось место — ведь кто такой Ян, если не злобный режиссер, просящий «актера» совершать ужасные вещи ради своего удовольствия?

Догма 95: Фильм №2, идиотизм по правилам
И эта тема, и эта ирония присутствуют в фильме «Идиоты» (1998), где предводитель «придурков» Стоффер выступает режиссером в группе ему подобных, валяющих дурака на публике (ну не сатирическое ли изображение киносъемочного процесса?). Картина заканчивается (теперь уже пресловутой) сценой оргии и призывом Стоффера к своим «идиотам» привнести идиотизм в повседневную, реальную жизнь каждого из них. Все уклоняются, за исключением Карен, «золотого сердца» этого фильма, которая разыгрывает идиотку перед скорбящими членами своей семьи. Сцена оргии прежде всего глупа — что наводит на мысль о том, что фон Триер таким образом насмехается над коммунами (не забывайте — в одной он воспитывался, а с другой ныне тесно сотрудничает). Сцена кривляния Карен перед своей семьей, с другой стороны, не может не волновать зрителя — и по сути служит той же цели, что и кульминация в «Эпидемии». Именно в этот момент мы понимаем, что Карен уже нарушила базовую общественную норму, сбежав после смерти своего ребенка; потом мы видим, как она кривляется и несет чушь перед своими убитыми горем родными, продолжая глупую игру (превратившуюся для нее в реальность) в наименее подходящих для этого обстоятельствах. Всякий, кто пытается обвинять фон Триера в насмешках над умственно отсталыми людьми, на мой взгляд, просто не понял этого фильма. Режиссер смеется над собой и стремится убежать от голоса разума, как любой романтик с времен Уильяма Блейка. История Карен, безусловно, самая тяжелая среди историй трех «святых» — ведь у нее нет ни идеалов, ни просто мотивов, которые могли бы объяснить ее невероятно болезненную и символическую жертву.
Словно рыцарь старых времен, он может заблудиться в своих мотивах, он может ранить себя самого.
В фильме «Танцующая в темноте» (2000) нет ни откройвенного секса, ни насилия, но от этого впечатлительному зрителю легче не становится. Глядя на муки, через которые проходит Сельма ради своего сына, мы ощущаем себя жертвами эмоционального насилия. Говорят, это же чувство испытывала во время съемок Бьорк, звезда «Танцующей в темноте». Как мюзикл (хотя по накалу эмоций этот фильм, пожалуй, опера) эта картина уникальна. Дело не только в том, что музыкальные номера Бьорк и манера, в которой фон Триер снял их, разительно отличаются от всего, что нам доводилось слышать и видеть; в отличие от большинства мюзиклов, эти вставные эпизоды не приносят эмоциональной разрядки. Подобно партиям греческого хора, они анализируют и комментируют события, разворачивающиеся в этой душераздирающей мелодраме. Добродетель Сельмы, в отличие от Бесс и Карен, полностью завоевывает наши симпатии, и очень сложно наблюдать за ее страданиями отстраненно. Вот почему это самый интимный фильм фон Триера, — ощущение, усугубляющееся благодаря ручной камере.
В фильме Бьеркмана «Трансформер» фон Триер, потрясая кулаками, говорит о том, что худшим видом предательства является измена собственным идеалам, — и становится понятно, что такое предательство он когда-то пережил сам. В своих картинах, от «Элемента преступления» до «Танцующей в темноте», он показывает нам: быть идеалистом — не значит носить розовые очки и провозглашать нереалистичный взгляд на вещи. В «Элементе преступления», «Эпидемии», «Центропе», «Медее» и «Королевстве» главные герои не кто иные как идеалисты, которые так беспомощны в претворении своих идеалов в жизнь, что в результате становятся проводниками зла, а не сеятелями добра. В фильмах «Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующая в темноте» героини-святые, может, и совершают самоотречение, как велит им Евангелие, но каждая из них делает это решительно не по-христиански: святая-прелюбодейка, святая-анархистка, святая-убийца. Как все великие художники, фон Триер творит в такой эстетике, которая переходит рамки любых художественных категорий, и потому его творчество невозможно свести к какому-либо внятному «посланию», даже его собственному. Словно рыцарь старых времен, он может заблудиться в своих мотивах, он может ранить себя самого; но он будет продолжать драться, пока не убьет последнего дракона, даже если этот дракон — в нем самом.

Р.S.
Аллегория снова в моде. В одном из репортажей с нынешнего Каннского кинофестиваля сравнивались политические аллегории Джорджа Лукаса («Звездные войны: Месть ситхов») и Ларса фон Триера («Мандерлей»). Такое параллельное сосуществование искусства и развлечения достигло в последние 20 лет своей кульминации. В кинематографе последний великий период реализма (персонажей, места действия и сюжета) пришелся на конец 1970-х, а с начала 1980-х кинокультура ползет обратно — в средневековый мир обобщенных образов, призванных иллюстрировать идеи, ценности и типажи. Первым завел эту песню Голливуд, выпустив «Звездные войны», а сегодня уже кажется, что практически все, даже не имеющие отношения к Голливуду подпевают на все голоса. Большая часть этой продукции грешит всем тем, в чем обычно обвиняют аллегорию: упрощения, очевидность, отсутствие тонкости, педантизм, неуместная фантазия, абсолютизм и т. п., — вот лишь несколько пунктов традиционного обвинительного приговора. Обвинять в этом можно и некоторые знаменитые аллегорические произведения («Путь паломника» Джона Беньяна, английская пьеса-моралите XV века «Каждый человек», басни Эзопа), но аллегория не обязательно должна быть простой и очевидной, как нас когда-то учили Данте, Чосер и Блейк. В картине «Догвилль» (2003) Ларc фон Триер довел прием киноаллегории до его логическогокого конца — и напомнил нам, что она может (и должна) быть сложной, тонкой, диалектичной, реальной и открытой для различных интерпретаций.
Может, это дурная религия и дурная политика, но это великое искусство.
Фильм «Догвилль» часто сравнивают с пьесой Торнтона Уайлдера «Наш городок», но мне он скорее напоминает блистательно сложные аллегории Натаниэля Готорна и Германа Мелвилла. Во многих их произведениях персонажи олицетворяют конкретные идеи, но если мы будем читать эти произведения на уровне идеологии, то уловить их смысл сколько-нибудь определенно окажется невозможно. Может, это дурная религия и дурная политика, но это великое искусство. Например, мы знаем, что в рассказе Готорна «Молодой Браун» заглавный персонаж олицетворяет невинность, а его жена — веру, но что именно происходит в лесу во время встречи героя с дьяволом — непонятно, да и финальная развязка не лучше. В романе Мелвилла «Моби Дик» белый кит — это Бог, и Ахав проводит в погоне за ним всю свою жизнь. Ну и что? Фон Триер тоже творит в царстве сложной религиозной аллегории. Том Эдисон (Пол Беттани) — это и Том Сойер (обратите внимание, этот роман держит в руках Эдисон-старший [Филип Бейкер Холл]), и американский изобретатель. Грейс (Николь Кидман) — это Господня благодать, снизошедшая на Догвилль. Она становится «глазами МакКею, матерью Бену, другом Вере, разумом Биллу» и реагирует на издевательства со стороны жителей городка, как смогла бы только святая. Однако стоит нам начать интерпретировать смысл «Догвилля», и мы тут же мы попадаем в сферу неопределенности. Ну и хорошо. В своем послесловии к роману «Имя розы» Умберто Эко пишет: «Поэтическое качество я определяю как способность текста порождать различие прочтения, не исчерпываясь до дна». Мне кажется, что «Догвилль» безусловно обладает таким «поэтическим качеством».

Непобедимый. Ларс фон Триер и принцип наглядного примера
Фон Триер приложил все усилия для того, чтобы убедить публику не пытаться понимать дословно его картину с ее искусственными декорациями, британским акцентом закадрового голоса и ритуальным формализмом актерской игры и диалогов. И все же многие американские критики откликнулись на картину в духе фундаментального буквализма (подобно тому, как исламские фундаменталисты восприняли публикацию «Сатанинских стихов» Салмана Рушди). Ярким примером американского шовинизма после терактов 11 сентября могут послужить тексты Роджера Иберта. В своей рецензии на «Догвилль» он утверждает, что «по степени идеологической тонкости фон Триер недалеко ушел от сумасшедшего уличного проповедника». Далее Иберт признается в собственной неспособности понимать тонкие аллегории: «Сомневаюсь, что у нас [американцев] есть деревни, где беззащитную путницу приковали бы к кровати и позволили изнасиловать каждому жителю деревни». По-моему, это до невозможности буквальное прочтение фильма и свидетельство того, что для Иберта городок Догвилль в картине фон Триера — не что иное, как попытка реалистичного изображения Америки. Еще надо заметить, что многие рецензенты с радостью ухватываются за тот факт, что фон Триер никогда не бывал в Америке, и отсюда все эти «как он смеет вообще о нас чтото говорить!» В одном из интервью, данных режиссером во время Каннского кинофестиваля 2005 года, он выступил с защитной речью и выразил свои чувства и чувства многих людей во всем мире: «Америка заправляет миром. Я снимаю фильмы, которые имеют отношение к Америке, [потому что] 60% моей жизни — это Америка. Так что я на самом деле американец, но я не могу поехать в Америку и голосовать там, чтобы что-то изменить. Я американец, и поэтому я снимаю фильмы про Америку».
Мне кажется, что фон Триер, будучи католиком, размышляет о правосудии согласно Ветхому Завету и о милосердии — согласно Новому Завету.
Чтобы понять, насколько сложен и неуловим смысл «Догвилля», можно ознакомиться с рецензиями на этот фильм. Джеймс Берардинелли в опубликованной на его сайте Reelviews рецензии размышляет: «Что все это означает? Фильм искусно подталкивает по крайней мере к двум очевидным интерпретациям», — и затем предполагает, что персонаж Грейс олицетворяет либо угнетаемых, либо Северную Америку: некогда эксплуатируемую, а ныне эксплуатирующую весь мир. Стивен Холден в «New York Times» находит, что фильм «раскрывает лживость мифа о всеприимном человеческом сообществе (и в особенности уютной, пропахшей домашним печеньем грезы о провинциальной Америке)», — и считает, что смысл фильма таков: «хороших людей не любят за их добродетель». Элберт Вентура на сайте Allmovie.com говорит, что «Догвилль» «комментирует присущие Америке лицемерие и подлость», но при этом отмечает, что фотомонтаж и мелодия песни Дэвида Боуи «Young Americans» на финальных титрах призывают «толковать картину не столь широко».

Если мне позволят присоединиться к этой веселой компании, я рискну предложить еще пару интерпретаций, которые ни в коем случае не отрицают вышеупомянутых толкований «Догвилля» (в чем и состоит прелесть искусства). Во-первых, мне кажется, что этот фильм иллюстрирует афоризм преподобного Исаака Сирина (не важно, читал преп. Исаака фон Триер или нет). В «Словах подвижнических» преп. Исаак говорит: «Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие — в одной душе». Преп. Исаак, конечно же, имеет в виду душу человека, потому что в христианской традиции Бог — это всегда и Бог правосудия, и Бог милосердия. Мне кажется, что фон Триер, будучи католиком, размышляет о правосудии согласно Ветхому Завету и о милосердии — согласно Новому Завету. Помимо этой библейской темы, в фильме по-прежнему видна одержимость режиссера образом гонимой женщины. Его часто обвиняют в женоненавистничестве, и в интервью журналу «Newsweek» он объясняет, что дело не в этом. Своим героиням, по его словам, он передает свой собственный опыт. «Эти персонажи — они не женщины, в них нет ничего женского, — говорит он. — Это автопортреты». Зачем ему использовать женщин в качестве дублеров, — спросил бы буквалист. Продюсер фон Триера Вибеке Винделев объясняет это так: «В обществе женщинам позволяется выражать больше — эмоционально и вербально. Задумайтесь, как редко выпадает мужчине шанс высказать и сделать в фильме все то, что женщины говорят и делают в фильмах Ларса».
Но не теряйте бдительности, предупреждает фон Триер, когда-нибудь Америка покажет себя во всей красе и уничтожит вас.
Учитывая этот фактор и размышления фон Триера, конец «Догвилля» можно интерпретировать как попытку режиссера (и Грейс — как его воплощения) проникнуться добродетелью милосердия — и в то же время попытку осмыслить взаимосвязь между добродетелью и справедливостью. Но в результате он, кажется, ошибочно принимает жажду мести за добродетель правосудия.
Во-вторых, «Догвилль» может символизировать Данию, Скандинавию, Европу и вообще весь мир. Ведь рассказчик с ярко выраженным британским акцентом представляет нам городок (в фильме он называет его словом тощншип, «поселок»; никогда не слышал, чтобы в Америке так говорили), в котором происходит моральное перевооружение с помощью социалистических, светских средств; городок, жители которого рассуждают о стоицизме, называют своих детей именами из поэм Гомера, проводят ритуалы плодородия и пишут латинские изречения на входе в заброшенную шахту. Все это совсем не по-американски. Кроме того, жители Догвилля довольно бедны, — по сравнению с гангстерами, естественно. А что, если американцы — это Грейс и ее бандитское семейство? Что, если жители Догвилля — это «молодые американцы»? Ведь все население земли по мере расширения Американской Империи превращается в молодых американцев. Тогда что же получается? Американцы посылают своих парней на другой конец света «на помощь», а в результате их цинично используют и подвергают гонениям. Но не теряйте бдительности, предупреждает фон Триер, когда-нибудь Америка покажет себя во всей красе и уничтожит вас. Именно об этом много лет назад с неприкрытым цинизмом пел Рэнди Ньюмэн:
Мы даем им деньги — но благодарны ли они?
Нет, они полны презрения и ненависти
Они не уважают нас — так давайте их удивим
Сбросим на них большую бомбу и разметем их в пыль…
Они все так или иначе ненавидят нас
Так сбросим на них большую бомбу прямо сейчас

Неужели все мы со своими абсолютными ценностями стали уже настолько «ситхами», что больше не способны понять образность? Не способны допустить множественность точек зрения? Неужели фундаменталисты-террористы превратили нас в шовинистически настроенные племена? Для меня Ларс фон Триер — это Достоевский наших дней. Да, как и классик русской литературы, он в чем-то реакционер, невротик и ретроград, но он создает для нас художественные полотна, полные такой диалектической сложности, которая не может не вызвать прелюбопытные реакции в умах зрелых и образованных.