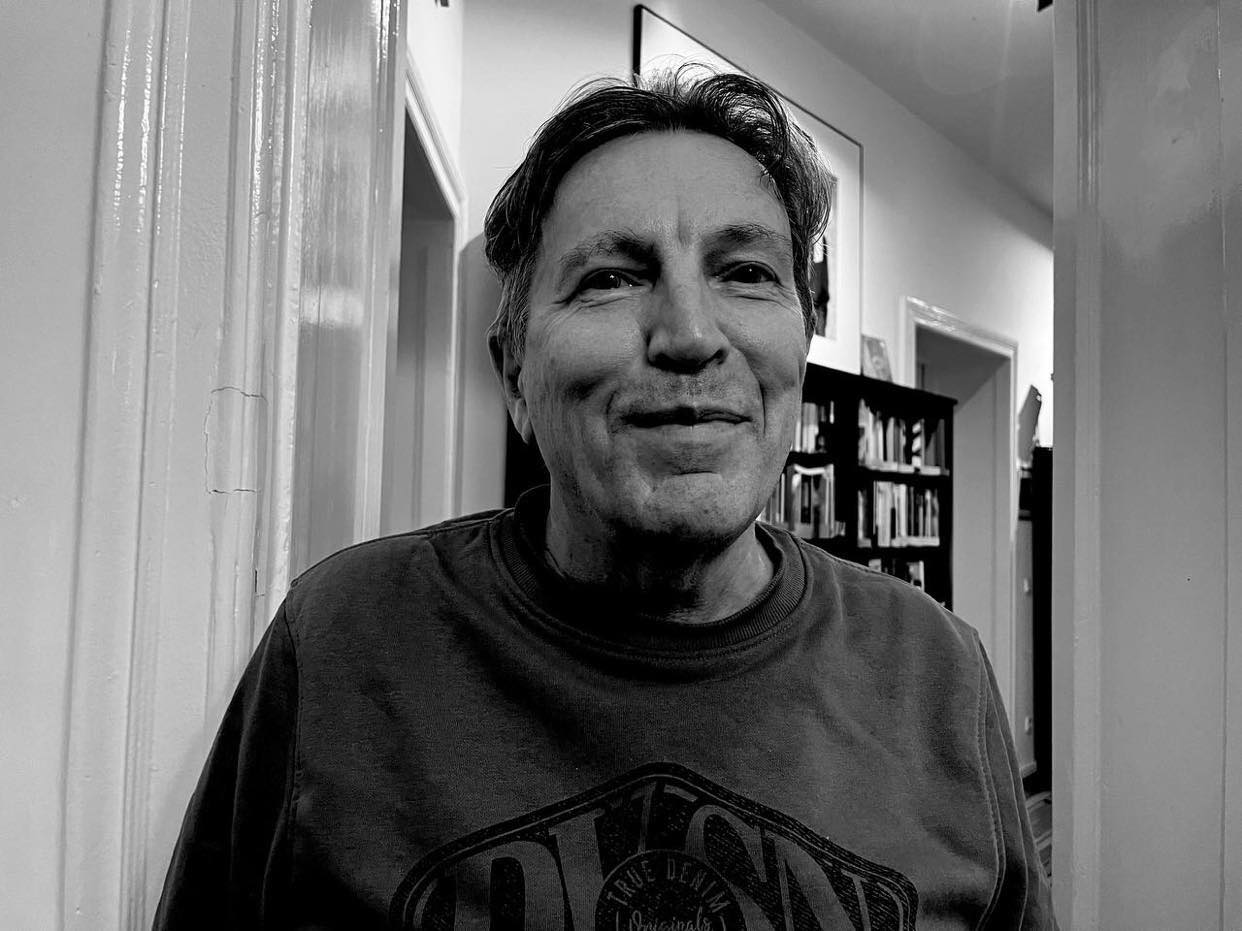Недобитая русская карта
Девяносто второй и девяносто третий годы, вероятно, войдут в анналы кинобизнеса отчаянной попыткой кинематографической старушки Европы отыграться в безнадежной партии с голливудскими игроками. В ход было пущено все: и лозунг самоидентичных нацкультур (включая недобитую русскую карту), и идея европейской солидарности, и стоящие за ними чрезвычайные материальные фонды.
Но вот первый парадокс: все больше картин, выходящих из-под эгиды этих фондов, лепится по одной и той же, сугубо американской формуле. Я назвал ее «формулой абракадабры», вспомнив одну, кажется бельгийскую, картину. «Абракадабра» запомнилась идеальными пропорциями action, сексуальной вздрючки, уголовной романтики, мужского шовинизма и здорового «общечеловеческого» цинизма. Все это было заложено в режиссерский компьютер, выдавший лихой полнометражный видеоклип.
Такова реакция на кризис авторского кино, на потерю им своей зоны влияния. Обозревая одну из церемоний европейского приза «Феликс», кто-то заметил, что она подобна самой европейской кинематографии. Респектабельной, серьезной и непроходимо скучной. Это было три года назад. Что изменилось? Не надо думать, будто европейский рынок буквально — как Москва чеченцами — заполонен привозным заокеанским товаром. Куда важнее оккупация мозгов. Самая мощная на континенте кинодержава — Франция — конкурирует на мировых торгах с фильмами почти столь же голливудскими, как те, что делаются в калифорнийской Мекке. Вот «Любовник» Жан-Жака Анно. Вот «Индокитай» Режи Варнье, выигравший «Оскара» в трудной борьбе с михалковской «Ургой» (тоже наполовину французской).
«Урга» — особый случай универсального фильма евразийского покроя. От этой «песни монгольских степей» без ума западные интеллектуалы. «Индокитай» и «Любовник» ориентированы на гораздо более широкий слой. Разница между ними лишь в том, что «Любовник» включает элемент эротической провокации (любовь несовершеннолетней француженки и китайского аристократа), и потому «Оскара» выиграл добропорядочный «Индокитай», политически и этически более корректный. Но сходства больше, чем различий.
Роскошь восточных пейзажей, таинственность ритуалов, придыхание роковых страстей — джентльменский набор старого доброго колониального романа — присутствует в обеих франко-индокитайских эпопеях. Но теперь он начисто лишен аристократизма и снобизма и адаптирован к унифицированному сознанию подростка, взращенного то ли на Майн Риде, то ли на Майкле Джексоне. Социальные, расовые, возрастные и культурные перегородки запросто преодолеваются героями, которых играют как никому не ведомые новички, так и суперзвезды французского (Катрин Денев) и гонконгского (Тони Леунг) экрана.
В этом постголливудском мире сведены к минимуму расстояния, барьеры, различия между хорошим и плохим кино. И конечно, между кино голландским и венгерским, немецким и польским. Тотальное голливудское кино делается сегодня в Европе. И неважно, что оно не имеет заметного коммерческого эффекта, важнее — эффект психологический. Когда американцы видят это кино, они начинают лицемерно канючить: мы бы рады, мол, пойти другим путем, да ведь вам самим нравится.
***
Мы, в отличие от остальных европейцев, еще только пытаемся, да и то неуклюже, овладеть этой формулой. Абракадабра у нас своя, доморощенная, с ихней никак не схожая. В этом наша беда, но, может, — кто знает? — и наше счастье. Парадокс второй, так или иначе вытекающий из анализа последних кинематографических сезонов. Прежние, к чему мы уже привыкли, приносили нашим стабильный урожай зарубежных призов и наград. Иногда даже денежных, что приятно щекотало творческое самолюбие. Увы, нынче успехи куда скромнее — по крайней мере, если на время забыть про ближнее зарубежье и говорить о российском кино.
Но ведь именно оно, по оценкам экспертов «Кинотавра», давно не переживало столь звездного часа. Однако эта домашняя оценка пришла в явное противоречие с теми, что были получены в Берлине, Канне, Монреале, Венеции, Сан-Себастьяне. Хотя во многих случаях там представительствовали те же фильмы, что становились гордостью многочисленных «внутренних» кинотусовок.
Разумеется, можно сетовать на то, что большие международные фестивали сами переживают кризис, что на них — в силу давления конъюнктурных факторов, борьбы продюсерских и собственно фестивальных амбиций — возникает нервозный, сенсационный контекст. Что и говорить: он не слишком выгоден для таких штучных изделий, как «Прорва» или «Чувствительный милиционер». Но ведь и фильмы, куда более приближенные к голливудскому стандарту — например, «Луна-парк», — оказались холостыми выстрелами. Вдохновленные успехом «Такси-блюза», французы испробовали, кажется, все возможные способы подпитывания русской кинокультуры, не забывая и про обратные вливания, то есть руководствуясь резонами вполне прагматическими. Свежая режиссерская кровь с Востока обещала внести вирус витальности и дикарства в дряхлеющий организм французской киноиндустрии, в чересчур конфиденциальную, выхолощенную природу авторского кино.
Одни наши режиссеры — как Игорь Минаев и Александр Адабашьян — получили право на чисто французские постановки. Другим — как Виталию Каневскому, Кире Муратовой, Рустаму Хамдамову, Сергею Овчарову, и теперь Алексею Герману, — предоставлялась возможность на выделенные франки продолжать осваивать и обустраивать свой художественный мир. Третьи — как Павел Лунгин — конструировали модель убойно универсального фильма. Четвертые — как Георгий Данелия и Сергей Бодров — искали лирико-комедийные ходы, разрабатывая тему «русские за границей». Эпидемией фрацузско-нашинских копродукций заразились, кажется, все — от народного героя-ветерана Эльдара Рязанова до параллельно-подпольного персонажа Максима Пежемского.
Имена не последние, если исключить двух-трех подозрительных типов, присосавшихся к парижским Фондам по причине физической к ним близости и благодаря личным связям. И тем не менее ни один фильм, произведенный Цветом Российской Кинорежиссуры в содружестве с фрацузами, не стал ни художественным шедевром, ни фестивальным хитом, ни коммерческим бестселлером.
Наиболее интригующим в этой череде следует признать казус Ивана Дыховичного. На первый взгляд, он заключается в том, что произошло раздвоение личности режиссера и родилось сразу два фильма в одном. «Прорва» — для внутреннего потребления. «Московский парад» — для внешнего.
Если и так, — мне лично нравятся оба, и не нахожу ничего порочного в этом «двуствольном» методе. Однако недаром перепады симпатий и антипатий к «Прорве» напоминали две судьбы фассбиндеровской «Лили Марлен». Поэтизация тоталитарного Большого Стиля сама по себе рискованна. Но, помимо прочего, то, что для нас есть Авангард, для Запада пахнет Компромиссом. Вот почему на родине фильм упрекали в чрезмерной элитарности, за границей — в потакании коммерческим штампам.
Но французы не сдаются. Они переносят центр тяжести гуманитарной помощи из Питера и, особенно, Москвы (где среди их подопечных остался, кажется, только Валерий Тодоровский) в Грузию и Казахстан. Надеются хоть там добрать по части неоварварства.
На Восток смотрят и ведущие международные фестивали. Больше, правда, на дальний, на регион Пасифика. На закрытии прошлогоднего Берлинале плечом к плечу стояли режиссеры из двух Китаев — красного континентального и желтого островного, — держа в руках двух совершенно одинаковых «Золотых медведей». Спустя три месяца в Канне «Золотую пальмовую ветвь» разодрали пополам представители Китая и Австралии. Несколько иначе выглядел венецианский расклад, но и в нем присутствовал Восток: таджик Бахтиер Худойназаров укротил «Серебряного Льва».
Вообще все эти Львы, Леопарды, Медведи, Павлины, когда они достаются соотечественникам (даже бывшим), безумно раздражают и по тайной логике сопрягаются в сознании с многомиллиардной коррупцией и бесстыдной распродажей недр. Приступы высокоморального ханжества и запоздалые стенания по поводу гибели родной культуры не новость для России. Но только слепой не заметит, что до российских «недр» все меньше охотников, что алчный взор западного колонизатора (накопителя, потребителя) затуманился и направлен сквозь нас — в Азию. И если проблема Запад-Восток в ее кинематографическом преломлении касается нас, то очень косвенно, «транзитом».
Теперь осваиваем роль статистов, а то и просто зрителей, принужденных пассивно созерцать, как европейские эстеты источают восторги в адрес вполне наивных (по мнению одних) и вполне беспомощных (по мнению других) казахских и прочих сделанных по соседству лент. Превращаться в транзитную территорию мы начали не сегодня и не вчера. На карте бывшей советской империи всегда были различимы полюса, что, словно Атланты, держали кинокультуру. Сдвиг сначала одного, а затем и обоих полюсов на Восток происходил медленно, но верно. Сначала Москва, Питер, потом Тбилиси, потом…
***
Это вольно было бы счесть нашей внутренней мутацией, если бы сдвиг не происходил и в глобальном масштабе. Первые симптомы наметились еще пять лет назад, когда «Красный гаолян» китайца Чжана Имоу отхватил главного «Медведя» в Берлине прямо из-под носа у «Комиссара», возвестив о близком конце перестроечного «русского сезона». Запрограммированный на короткое дыхание, этот сезон выдохся естественным образом. А наши желтолицые братья продолжали штурмовать труднодоступные вершины: триумфальный выход китайских делегаций в национальных костюмах стал колоритной чертой фестивальных церемоний. В венецианском конкурсе девяносто первого года, собравшем созвездие европейской режиссуры, очередная картина Имоу «Зажги красный фонарь» уступила все же «Золотого льва». Но не кому-нибудь, а «Урге», засвидетельствовавшей, что геокультурным (в отличие от политического) чутьем евразиец Михалков обладает. Зато всего год спустя Имоу вернулся в Венецию с новым фильмом — и стал победителем.
Секрет не только в пресловутом китайском упорстве. Кинематографисты «пятого поколения» сформировали сильную режиссерско-операторскую школу с двумя лидерами во главе и с большим потенциалом «поддерживающих фигур», которые завтра могут стать главными. Познавшие в юности кошмар «культурной революции», они сумели противостоять мракобесию и в условиях цензуры делать кино одновременно метафорическое и прямое, бескомпромиссно жесткое и эстетски изощренное. Казалось, после бойни на Тяньоньминь расцвет киноискусства в континентальном Китае невозможен. Ничего подобного. К тому же вступили в действие прагматические резоны, и вот уже Китай с Тайванем и Гонконгом совместно финансируют и реализуют кинопроекты, образуя новый кинематографически активный регион.
Девяносто третий год был признан годом китайского кино или — как сострил кто-то в связи с киноверсией «М. Баттерфляй» — «годом китайских трансвеститов». Впервые столь тесно сплелись на экране экзотическая эротика и эротическая экзотика. «Свадебный банкет» Энга Ли: любовь китайца и американца в столкновении с традиционным укладом «предков» (Grand Prix в Берлине). «Прощай, моя наложница» Чена Кайге: треугольник любви и ревности, в котором один из мужчин — оперных артистов — выступает в женской роли как на сцене, так и в жизни (Grand Prix в Канне). «Смеха ради» Нинг Йинг: почти те же персонажи Пекинской оперы в сниженном варианте: вместо трагического эпоса жизни и судьбы лирическая драма-комедия старости (Grand Prix конкурса молодого кино в Токио).
Но дело не в одних фестивальных успехах или восторгах европейских снобов. Китайское кино, преодолев мощный языковой барьер и заслоны привычек и стереотипов, прорвалось в международный прокат. Оно обволакивает сильным магическим полем, пронзает энергией, подкупает свежестью и цельностью. При этом никто не заподозрит китайцев в нечестной игре: они не жертвуют своей самобытностью в угоду стандартным вкусам, и даже доля здорового популизма не портит впечатления от большинства из них.
«Наши» азиатские завоевания куда скромнее, и все же… Фильмы из постсоветской Азии, имевшие успех на фестивалях минувшего года, — «Место на серой треуголке» Ермека Шинарбаева, «Ангелочек, сделай радость» Усмана Сапарова, «Качели» Абдыка-лыкова, «Последние холода» Булата Калымбетова и Булата Искакова. Они отражают реальность не менее жестокую и «черную», нежели новые работы их российских коллег. Но счастливо минуют рифы поверхностной американизации, дешевого стеба и морального эксгибиционизма, которые следует, очевидно, связывать с чисто советскими комплексами, особенно неистребимыми в России. В среднеазиатском кино и экзотика, и эротика, и насилие, и юмор более натуральны, его темы общечеловечны, а жанровые решения, не стесняясь, когда надо, быть мелодраматичными, ближе психологическому универсуму современной западной публики.
***
На нашу же, российскую долю приходится теперь лишь остаточный интерес, транзитная остановка в восточных вояжах профессиональных кинопутешественников. Присоединяюсь к наблюдению Петра Вайля, сделанному издалека: «Не исключено, что Россия провалилась в некую культурно-историческую щель: что это теперь? Европа? Азия? окраина Запада? восточная экзотика? … Культуры не существует вне иерархии, вне классификации — и нельзя оценить то, что не имеет имени».
Но может, только кажется, будто на шестой части мира культурное поле истощилось с развалом империи или только рудиментарно сохранилось в постсоветском культурном подсознании? Нет, оно во многом продолжает определять и восприятие всей этой территории извне. По-прежнему происходящее к востоку от Буга психологически оценивается на Западе как единое целое, если и состоящее из дискретных компонентов, то взаимозаменяемых, а не уникальных.
И потому несложно доказать поначалу кажущуюся дикой гипотезу о том, что казахская «новая волна» исполняет на международной (фестивальной) арене обязанности русской — то ли захлебнувшейся при рождении, то ли катящейся транзитом «не в ту степь». Отвергнув соблазн национальной замкнутости, «новые казахи» приняли космополитическую установку, однако не стали выдавать себя за стопроцентных европейцев и сохранили идентичность в пределах бывшего советского региона. И как раз потому выиграли в глазах международной кинообщественности, увидевшей в них спонтанное воплощение того, чего ждут с территории между Польшей и Китаем, но никак не дождутся от «новых русских».
Бита ли окончательно русская карта в европо-американской игре, покажет ближайшее будущее. И если не бита, то прежде всего благодаря ее азиатскому компоненту. Ибо мифологичность фигуры Европы (некогда похищенной быкоподобным Зевсом) становится все очевиднее — всюду, кроме разве что нашей страны чудес.
Там, в Европе, все плоско, все означает то, что означает. Либо деньги есть, либо их нет. Либо подъем, либо упадок. Если стена разрушается, значит — интегрируется окрестное пространство и облегчается коммуникация.
Но чем восточнее, тем меньше действуют законы геометрии, физики, политэкономии. Разрушение Берлинской стены стало началом энтропии на континенте. Только дробиться, разламываться на куски начали не стены, а страны. Разрезы пошли по живому: вместо одной большой появилось множество мелких перегородок. С отменой идеологической монополии на информацию стали доступны телексы, ксероксы, факсы. Однако с такими странами, как Молдавия, Армения или даже Польша, связь на практике отказывает по причине то технической отсталости, то войны, а то и вовсе мистическим образом. Вот почему целый ряд новых европейских кинодержав (среди них Украина и Белоруссия) не участвовали в борьбе за Европейский кино-приз «Феликс»: с ними попросту не удалось установить обратную связь из Берлина.
Само вручение «Феликсов» в прошлом году стало возможно благодаря поддержке Федерального штата Бранденбург, ART (Европейского культурного телеканала) и ZDF (Второго Германского телеканала). Страна знает своих героев: имена спонсоров, бросившихся на амбразуру рецессии, золотыми буквами вписаны в культурную летопись. Отступись завтра последние из могикан — рецессия убьет «Феликса», как убила уже многие культурные проекты, задействовавшие восточноевропейский мир. Замечу в скобках, что если бы Европейский приз с самого начала присуждался в рамках European Community, то у него было бы гораздо больше оснований для получения финансовой поддержки соответствующих межправительственных структур. Так что платить, по сути, приходится за идеализм европейского братства без берегов.
Даже без учета финансовых потрясений кризис кинематографического евромифа налицо. Никогда еще список кандидатов на «Феликса» не был столь хилым, как в девяносто третьем году. Дело свелось к соперничеству Клода Соте («Сердце зимой») и Никиты Михалкова («Урга»), завершившемуся победой последнего.
Оба фильма по фестивальной градации — из категории «тех, что устраивают всех». Противопоказанием для «Урги» считалась лишь ее двухлетняя давность, объяснимая задержкой выпуска в российский прокат. Но волшебная сила искусства и усатого михалковского обаяния действует безотказно в мире, где всем наплевать на Руцкого и на двусмысленность русской идеи. Точно так же, как все воспринимают как должное органический шовинизм многих французских фильмов, в которых Париж предстает мерилом и центром мироздания. Михалков здесь — просто полпред «великой русской культуры со свойственным ей консерватизмом».
И опять же успеху фильма способствовал азиатский, «китайский» фактор, который только кажется романтическим, а на самом деле отвечает прагматизму европейских гуманистов и либералов. Им кажется, что культурный мост более не нужен Европе: ее восточная часть сама готова, на свой страх и риск, преодолевать бездну, отделяющую ее от западной. Мало того, дальнейшее разрушение стен и наведение мостов в непосредственной близости от собственного дома грозит нарушить комфорт. Этого не хочется, зато хочется сохранить политическую корректность. Вот из стены и делают некий фантом, симулякр, искусственно передвигая ее на Дальний Восток, в Азию, с глаз подальше. Китай ведь не так близко, и опасность дискомфорта пока не велика.
Вообще же присуждения «Феликсов» никто, если не считать профессиональной среды, на Западе особенно не заметил. То ли дело у нас: еще недавно словно манны небесной жаждали наши кинематографисты хоть какого-нибудь, хоть плохонького зарубежного приза. И «Феликс» вырастал прямо-таки в «Оскара», «Оскар» же вообще почитался чем-то вроде пропуска в рай.
Но вот пришло отрезвление, а потом, как положено, мы дали крен в другую сторону. Комплекс неполноценности стали заглушать манией величия, «низкопоклонство перед Западом» — молодецким «мы сами с усами». Начали стремительно плодиться внутренние фестивали — местные Канны. Вовлеченные в круглогодичную тусовочную жизнь (сравнимую с заграничной) кинематографисты вкупе со спонсорами, телевизионщиками и, отчасти, журналистами оказались вполне счастливы и самодостаточны.
Третий парадокс. В тот самый момент, когда евромиф рухнул наконец и в российском сознании, наши руки снова судьбоносно сплелись с Европой. Речь о руках, опускавших свои бюллетени за «Ургу» в конкурсах «Феликса» и отечественной «Ники». О руках европейских киноакадемиков (от Бертолуччи до Херцога) и академиков московских, определявших номинации «Ники».
***
Мы опять почти во всем совпали с Европой. Триумфатором отечественного киногода стал Никита Михалков — как за полмесяца до этого он же прослыл героем европейского «Феликса».
Правда, у нас его наградили не за лучший фильм, а за лучшую режиссуру. Но это дела не меняет. Даже многие из тех, кто не в восторге от «Урги» и от личности Михалкова, вынуждены признать, что режиссер на порядок выше по мастерству, нежели его старшие и младшие коллеги. По искусству у него было только два соперника — Отар Иоселиани («Охота на бабочек») и Иван Дыховичный («Прорва»). Но шансы обоих были невелики: их электорат составляли эстетствующие радикалы. Большинство же киноакадемиков недвусмысленно заявило о своих вполне традиционных пристрастях, подчеркнув в графе «лучший фильм» «Анкор, еще анкор!», а в графе «лучший режиссер» — Михалкова.
На первый взгляд, эти предпочтения несовместимы. Михалков — европейская величина, едва не отхватил «Оскара». Тодоровский только однажды в своей достойной биографии приблизился к международной славе — когда снял «Военно-полевой роман». Да еще «Интердевочка» получила приз на фестивале в Токио — не без помощи Михалкова, бывшего там председателем жюри. Но, как правило, фильмы Тодоровского, включая и «Анкор», сориентированы на внутреннюю аудиторию и принадлежат сугубо советской шестидесятнической кинотрадиции, без всяких примесей авангардизма и постмодернизма. Они, эти фильмы, демократичны (в этическом плане) и консервативны (в эстетическом). Точно так же, как вкус нашей кинообщественности, даже если она мнит себя элитой.
Но ведь и Михалков — законный сын этой традиции. Что он неоднократно подчеркивал — то жестом в поддержку Бондарчука, то передачей денежного приза в помощь ветеранам кино. Конечно, фильмы самого Михалкова рассказаны гораздо более современным языком и чувствуют западную аудиторию. Но по сути они эксплуатируют все тот же арсенал сентиментальной «задушевки», что питал русское кино от оттепели до перестройки и остаток которого утеплил макаберную атмосферу «Маленькой Веры». Хлынувший затем авангард вкупе с чернухой уничтожили эту почву и мифологию. Лишь чудом, в качестве реликта, они кое-где и кое у кого сохранились. Сохранились в домашнем варианте у Тодоровского и в экспортном у Михалкова, которые и разыграли между собой «Нику».
Все бы смешалось в доме Облонских, если бы главный приз достался не Тодоровскому, а, положим, Дыховичному. Или кому-нибудь из представителей совсем новой «волны».
Эта «волна» тоже использует арсенал тоталитарных мифов, но выворачивает их наизнанку, иронически остраняет, эклектически перемешивает с западными аналогами. Она, «волна», жаждет влиться в европейский контекст. Но как раз этого не происходит: русское кино привыкли ценить на Западе за простоту и задушевность, либо — вариант Тарковского — за метафизическую возвышенность. Ни того, ни другого нет и в помине ни в «Прорве», ни в «Детях чугунных богов», ни в «Дюба-Дюба». Оттого так трудна и нескладна их международная фестивальная участь. Да и на родине их успех возможен лишь при поддержке профессионального либо поколенческого лобби.
Тандем Тодоровский — Михалков консолидировал противоборствующие силы и течения, сомкнул внешне непримиримые позиции — политические, эстетические, этические, — обнаружив их подспудное внутреннее родство. Тандем также внятно прокомментировал вероятность замены нашего отечественного киномифа альтернативным европейским. Сколь бы ни была желанна для многих сия замена, доступна она пока лишь на индивидуальном уровне — как счастливое исключение, выигрыш в лотерею, пускай даже тщательно спланированный.
Сама структура нашего сознания (и массового, и элитарного) устроена на иной, отнюдь не европейский манер. Живую иллюстрацию этой самобытности дало присутствие на церемонии «Ники» трех представителей рода Михалковых. Генетический код настолько крепок, что космополитические подвижки в нем не слишком заметны у Н. М. — даром что он более всех остальных наших признан в Европе.
Остается следить за теми мифологическими мутациями, которые обнаружат (или наоборот) следующие поколения в лице Степана Михалкова и Валерия Тодоровского.