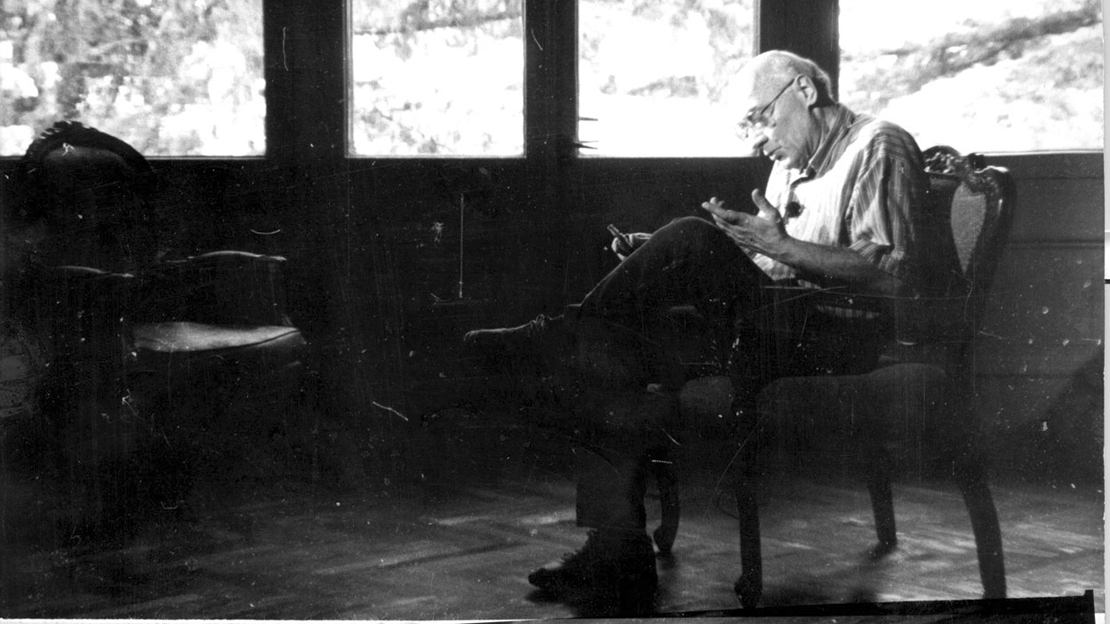Польша: ловушки прошлого
СЕАНС — 57/58
Польское игровое кино (послевоенное, межвоенное вообще в расчет не идет) началось с сюжетов прошлого, и до сих пор, то есть без малого семьдесят лет с короткими промежутками, оторваться от прошлого у него не получается. Каждый раз, когда возникало несколько фильмов кряду, действие которых происходит здесь и сейчас, кинематографисты, критика и даже, как ни странно, зрители праздновали победу и обещали себе и всем новую жизнь: отныне только о том, что происходит в наше время вокруг и в нас самих.

Разве что восточные кинематографисты, иранцы в первую очередь, похоже видят свой кинематограф
Так было в начале шестидесятых, когда Полянский (он тогда был-таки Полянским, в Полански его превратили наши грамотеи) снял «Нож в воде» (1961), а потом Сколимовский сделал один за другим четыре «современных» фильма — «Особые приметы» (1964), «Вальковер» (1965), «Барьер» (1966) и «Руки вверх» (1967). Под конец шестидесятых к пионерам присоединился Занусси со «Структурой кристалла» (1969). Критика торжественно провозгласила появление «третьего польского кино». Фигурантам это понравилось. Справедливости ради следовало бы сказать о том, чего мы в наших палестинах тогда почти не замечали: упорнее и радикальнее других в разворачивающуюся действительность вгрызался Сколимовский, примеряя к ней новый, еще незнакомый национальной кинематографии лексический и синтаксический строй. Ведь именно молодой поэт Ежи Сколимовский вместе с автором романа «Пепел и алмаз» Анджеевским написал сценарий первого в жизни Вайды «современного» фильма «Невинные чародеи» (1960), именно Сколимовский сотрудничал с Полянским на «Ноже в воде», подсказав режиссеру закамуфлированную формулу пьесы-робинзонады. Но обоих выдавили с родины. Истерзали поправками одного; на семнадцать лет упрятав на полку последний на тот момент польский фильм («Руки вверх»), освободились от другого. Поляк не русский, где ему настоящего терпежу набраться.
Занусси остался дожидаться Кесьлевского в одиночестве.
А Кесьлевский ни в грош не ставил родимое кино семидесятых годов, потому что оно не видело происходящего перед объективом камеры. «Наша действительность даже не замечена», «польская реальность остается неописанной», «экран отталкивает от себя сегодняшние лица, города, пейзажи» и т. д., и т. п. Он хотел делать кино без стилистических фигур, без символов и метафор, без лукавой игры со временем. Решусь осторожно предположить, что так, минуя декларации, он отмежевывался от мастеров польского кино — Вайды, Хаса, Конвицкого, — предпочитая вглядываться в лица, скрупулезно описывать интерьеры. Поначалу он доверял только документальному кино и в виде исключения — короткой игровой форме. При этом действительность он не панорамировал, а буравил. Вглядывался в лица ночного сторожа, ткачихи, немолодой балерины, каменщика и подключал зрителя к их потаенному миру. Еще чуть-чуть, и такая наблюдательность ничем не отличалась бы от вуайеризма: недаром один из фильмов «Декалога» (1989) посвящен подсматриванию. В отдельном «издании» картина называется «Короткий фильм о любви». В этом «вертикальном кино» Кесьлевский не знал и до сих пор не знает себе равных. Разве что восточные кинематографисты, иранцы в первую очередь, похоже видят свой кинематограф. Но польскому режиссеру довольно скоро захотелось делать «нормальные» игровые фильмы. Он и начал их снимать. И снял, сколько успел за свою сравнительно короткую жизнь.

Современность по-прежнему оставалась средой его обитания, его почвой и его горизонтом. Но теперь он делал вылазки в недавнее — «непрошедшее» — прошлое. Возвращался прежде всего к событиям, связанным с «Солидарностью». Время и мир слегка уподобились маятнику, а тот качнулся из сегодня в незабытое вчера. Но в какой-то момент и это сочленение времен по нехитрому принципу ретроспекции, видимо, показалось Кшиштофу Кесьлевскому плоским. Календарное время сменило время сомнамбулическое. Время стало поэтической фигурой.
Он еще не снимал во Франции, но у себя на родине уже стал иконой. Ураганный фестивальный успех, невиданный для артфильмов бокс-офис и неожиданная смерть — все вместе превратило его почти в святого польской культуры (я сама видела, как в задушницу — день поминовения — на варшавском кладбище Повонзки вокруг могилы режиссера лежали веером распростертые на земле поклонники обоего пола: почти языческая картинка!). Но как ни относись к этому культу, заслуга — культа и художника — в том, что польское кино из пассеистского (как и вся национальная культура) превратилось в современное.
Не исключаю, что именно «Пианист» разбудил, как оказалось, временно дремавшую тоску польских кинематографистов по былому
Молодые тогда кинематографисты, сгруппировавшиеся в объединении Х под руководством Анджея Вайды, без манифестов и деклараций постановили снимать только о том, что происходит за окном. Каждому предоставлялась свобода снимать, что он хочет, кого хочет и как хочет. Никаких коллективных действий внутри отдельного фильма. Оговаривалось также, что цена проекта должна быть минимальной. Во второй половине семидесятых в Польше было снято около двух десятков фильмов. Все о нынешнем, настоящем, о том, что не нуждается в исторических комментариях; как тогда говорили в кафе союза их кинематографистов, без стилистических претензий. В фильмах Холланд, Фалька, Марчевского, Бугайского и других можно было распознать уроки Кесьлевского, но в свете сегодняшнего знания мы бы сказали, что это было предчувствие того, что Зара Абдуллаева называет «постдок»: уже не «док», но еще не совсем фабула. Конфликты и ситуации обретались на расстоянии протянутой руки. Хотел того зритель или не хотел, о людях с экрана этих картин он мог сказать: «Себя как в зеркале я вижу», хотя вряд ли поляки так хорошо знают нашего классика. Зеркало не льстило. Не было разоблачений, не было и соболезнований. Критики назвали этот массив фильмов «кино морального беспокойства».
На дворе набухали гроздья гнева, вот-вот рабочие при поддержке здравомыслящей интеллигенции образуют профсоюз «Солидарность» и вынудят-таки сесть за стол переговоров представителей партии и правительства. На переговорах они добьются своего, удовлетворенные разойдутся по домам и по рабочим местам. А правительство через год введет военное положение: танки на улицах, тысячи арестованных, под запретом все зрелища, только по вечерам на экране единственного канала появляются дикторы и ведущие в милицейской форме. Жизнь и люди только было настроились жить сегодняшним днем, осторожно заглядывая в завтрашний, как танки генерала Ярузельского перегородили день нынешний и заслонили завтрашний. В мгновение ока мысль и творчество перешли на нелегальное положение: в одном из варшавских костелов Вайда ставит по пьесе Э. Редлинского ясельное действо, а все, кто к 1980 году обзавелся плеерами, смотрят передаваемую из рук в руки VHS с только что запрещенным фильмом Рышарда Бугайского «Допрос». В «Допросе» моральное беспокойство уже раскалено до гражданского гнева, и затхловатое сегодня бурлит памятью о послевоенных репрессиях. Чешской школы из кино морального беспокойства не вышло. К тому же выяснилось, что и мир, в ту пору еще расположенный к польскому кино, предпочитает смотреть его фильмы о прошлом.
Самое удивительное произошло недавно, пять-семь лет назад. Культура тяжело осваивала перемены, которые принесли новая действительность и новая система кинопроизводства. Кино топталось, утешало себя поделками, радовалось редким проблескам (например, фильмам самобытного Яна Якуба Кольского, их сказово-фольклорной природе) или с энтузиазмом праздновало победу «Пианиста» (2002). Знаменитый фильм, безусловно, сделан на польском замесе: реальный герой, Варшава — место действия и некогда польский режиссер Роман Полянский; но картина абсолютно американская не только потому, что на экране нет ни одного польского лица и не слышно ни одного польского слова, но по эстетике, по производственной идеологии и, так сказать, просто по факту.

Не исключаю, что именно «Пианист» разбудил, как оказалось, временно дремавшую тоску польских кинематографистов по былому. В первое десятилетие нового столетия один за другим выходят картины о людях прошлого и о ситуациях прошлого. Снимаются фильмы, темы которых некогда возглавляли железный index prohibitorum. Первым сорвал печать запрета Анджей Вайда, сняв «Катынь» (2007). Разумеется, картина взбудоражила общественные настроения, но не проклятым вопросом «было — не было»: все, помимо нашего отечества, давно знают, что было. Спорили о том, так ли надо снимать современную гекатомбу, или новые катастрофы требуют иного языка и другой драматургии. Так или иначе, но нельзя не признать, что 87-летний патриарх польского кино — единственный в мировом киноискусстве мастер, кто ощущает истинный масштаб трагедии и обладает даром передать его зрителям.
Здесь речь идет едва ли ни о самом болезненном обвинении, которое традиционно предъявляется полякам, — антисемитизме
Совсем иначе, игриво, снял свой дебютный фильм Борис Ланкош. Картина называется «Реверс», и речь в ней идет об изнанке строительства социализма в Народной Польше начала пятидесятых годов прошлого века. «Реверс» (2009) — это камерная история в стиле нуар, которая разворачивается на фоне монументального строительства Дворца культуры и науки, дара Советского Союза братской Польше. Дворца пока нет, вместо него гигантский котлован, который денно и нощно роют посреди столицы. Под рев техники живут люди (они и не такое недавно видали-слыхали), в этой же сценографии прогуливаются влюбленные. Их как будто ни яма, ни вой не пугают. Он статный, как говорили в те времена, интересный, но скорее из простых. Оказывает знаки внимания. Она — редактор отдела поэзии в издательстве, с хорошими манерами, привлекательная. Но со следами возраста во внешности и из бывших. Ей хочется замуж, мама и бабушка деятельно одобряют и однажды оставляют их с соискателем наедине. Жених снимает пиджак, в карманах которого пистолет и особое удостоверение. У него есть несколько вопросов к будущей невесте. Взбудораженная редакторша выходит на кухню и вливает яд в бутылку водки. Кости ухажера они будут хоронить всей семьей в футляре для скрипки.
Одна из самых драматичных картин на тему из проклятого реестра — фильм 2012 года Владислава Пасиковского с трудно переводимым названием. Картину можно назвать «После жатвы», можно — «Второй укос». Здесь речь идет едва ли ни о самом болезненном обвинении, которое традиционно предъявляется полякам, — антисемитизме. (Почему не французам, украинцам или русским? Основания те же.) В основе сценария — свободно изложенная реальная история, случившаяся на востоке страны в начале фашистской оккупации. Крестьяне заживо сожгли местных евреев, загнав их в сарай под гогот немцев. Простая история. Подобное случалось в разных странах. Но фильм Пасиковского, короля польского боевика, обожжен таким жаром ненависти, такой обидой попранного национального достоинства, что, посмотрев, его невозможно забыть, даже если этого очень хочется.
Кино вспоминает «Солидарность». Несколько лет назад был снят фильм «Попелушко: Свобода внутри нас» (реж. Р. Вечинский, 2009), этим летом Вайда завершает ленту о Лехе Валенсе. Трудно загодя сказать, каким получится портрет харизматика Валенсы. Но о святом пастыре ксендзе Попелушко вышел почти историко-революционный фильм.
Прошлое притягательно для искусства, но и коварно, очень коварно.