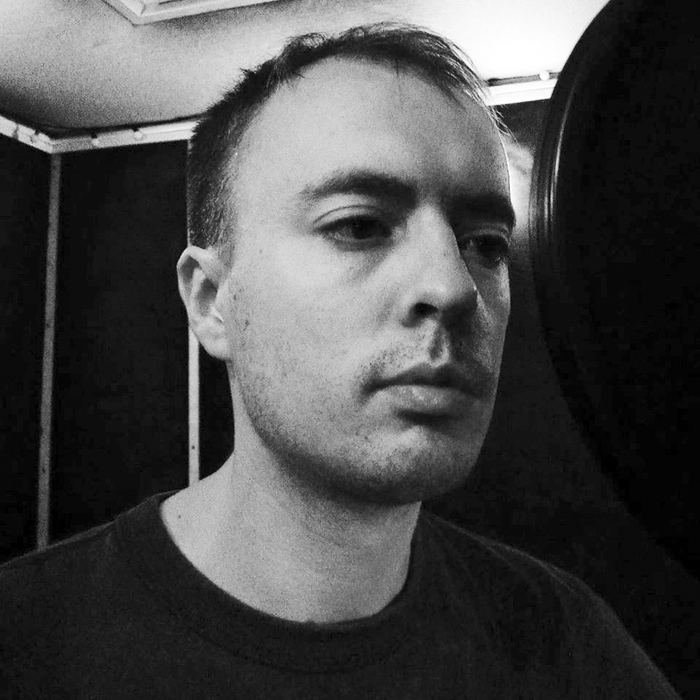Fun Дорин
Чрезвычайный сотрудник на экране

Чекист. Реж. Александр Рогожкин, 1992
Отечественный кинопроцесс устроен таким образом, что даже единичное обращение к какой-либо теме — пускай неудачное, но хоть сколько-нибудь заметное — вынуждает говорить о ее пересмотре в целом. Так, в ушедшем году рецензенты вспоминали о чекистах в кино: режиссер-дебютант Алексей Андрианов адаптировал «Шпионский роман» Бориса Акунина для самых больших экранов страны. Благодаря своему происхождению «Шпион» тянул бы на главную премьеру в российском кинокалендаре 2012 года, если бы хоть кто-то таковым пользовался.
Заметная неудача, фильм этот сделан в жанре «русский блокбастер», который можно признать безупречным экватором между современными Голливудом и Болливудом. И снова поднимает вопрос: почему так трудно найти поставщиков литературной основы для этого жанра? Неужели есть только Акунин? В случае «Шпиона», впрочем, в полный рост встал и другой вопрос: исходя из какой логики творцы русского блокбастера выбрали сюжет о том, как сотрудники НКВД под личным контролем Сталина прозевали начало Великой Отечественной войны?
По большому счету это, конечно, та же логика, в которой film noir сегодня воспринимается теми, кто желает заказать фотосессию «в стиле film noir». В этом случае за минувшие семьдесят лет оказались подзабыты и война, и иммиграция европейских кинематографистов, и еврейский вопрос, и кризис военного времени, спровоцировавшие возникновение этого явления. Остались — фетр, причудливые игры тени и света, «богартинг» виски и сигарет: искусственный и ненужный, ибо лишенный подоплеки в виде кодекса Хейса. История о провале чекистов в июне 1941 года имеет ровно тот же срок давности, и для нее оказалось легко найти свои приметы. Визуальные — благодаря фантазийным декорациям сталинского ампира. Звуковые — за счет скрипящих кожаных перчаток, шипящей иглы патефона и гремящего музыкального наследия, например Дунаевского.
А за приметами — пустота. «Шпион» принадлежит истории постсоветской амнезии, рядом со «Стилягами» и, конечно, «Утомленными солнцем 2». И потому чекист новой формации может быть каким угодно героем. Если не Козловским, то хотя бы Бондарчуком. Отец последнего играл подпольщика в «Молодой гвардии», сын же изображает некую помесь былинного чекиста с Морфеусом из «Матрицы». Здесь требуется смелость.
«Шпион» любопытен и своими разногласиями с первоисточником. Акунин насыщал конструкцию романа невообразимыми в советских «оригиналах» реалиями — ничем не оправдываемые человеческие жертвы, звериное зубоскальство начальников, за которым стоит звериный страх перед Усатым. Андрианов, напротив, максимально сцедил эти смыслы руками сценариста Владимира Валуцкого: сократил число жертв в срежиссированной НКВД троллейбусной аварии, сделал агента Когана Епифанцевым и попытался переложить неудачу операции «Затея» на дуэт Берия — Джугашвили.
Прилежно скругляя углы, постановщик, само собой, был пойман за руку, и вот уже трансформациям подобрали слово: Андрианов превратил шпионский роман в комикс. В этой «находке», в общем-то, и лежит причина, по которой столь охотно приобретаются права на прочие акунинские произведения. «Шпионский роман», как и любой другой у Акунина, представлял собой комикс еще до того, как попасть на экран. Тут надо понимать, что в США, стране происхождения графического романа, комиксы создали новую мифологию XX века. Не обязывая читателя хорошо знать историю, они творили свою на основе известных сюжетов (Вторая Мировая дала Капитана Америку, Холокост породил злодея из мира людей Икс и т. д.), впоследствии сочетая вселенную одного персонажа — условного Бэтмена — с той, что принадлежала другому — условному Супермену. В результате универсум заплетался в «мультиверсум» (где Бэтмен уже был антагонистом и боролся с Суперменом).
Ровно те же схемы на исходе прошлого века стал применять Акунин. Точно так же строятся обращения его к рукотворным отечественным мифам: какому-нибудь перевалу Дятлова в ЖЖ или мотиву найденной рукописи в «Ф. М.». На другом уровне — для тех, кто не распознает игр культурологических, — предлагаются другие: переклички героев и их историй, а позднее и поиск Фандорина, его родственника или хотя бы условного однофамильца (в «Шпионском романе» главный герой — Дорин) в очередной книге. В этом отношении Андрианов, пожалуй, ближе прочих экранизаторов оказался к той интонации, с которой надо ставить эти произведения и, будь чуть расторопнее, смог бы заложить фундамент для франшизы. Разойдясь с акунинским конструктом в целях, он превратил в цель его графическую выразительность, которой в «Шпионе», действительно, самое место.

Шпион. Реж. Алексей Андрианов, 2012
Но раз выразительность эта самодостаточна и не требует бэкграунда, то комикс оказывается тем же, что и отечественный блокбастер. Достаточно вспомнить сцену гибели Бондарчука в телефонной будке, которая является нежной отсылкой к «Матрице», главному ориентиру для такого рода кино. Поэтому ругаться на попрание первоосновы, где жертв аварии было восемьдесят с лишним человек, а не сорок две, по меньшей мере нелепо. Беда «Шпиона» не в том, что он комикс, а в том, что комикс плохой и вряд ли мог оказаться другим: Акунин — совсем не Алан Мур (о чем, кстати, всегда хочется напомнить носителям белых лент).
В связи с работой Андрианова любопытно вспомнить «Прорву» двадцатилетней давности. В год выхода режиссер Дыховичный получил немало упреков за «манерность» в отображении жизни НКВДшников в тридцатые годы. На самом же деле та кажущаяся веселость, с которой герои картины существовали в кадре, воплощала официальную риторику государства и тем самым вступала в противоречие с «прорвой, которая засасывает» и проявляет себя здесь же, в соседних кадрах.
Противоположным образом, то есть на полном серьезе, к теме ЧК в том же 1992 году подошел Александр Рогожкин, поставивший повесть «Щепка» Владимира Зазубрина. Его фильм «Чекист» входил в русскую гепталогию: проект французского седьмого телеканала и сценариста Жака Бэнака. В этой серии «Чекист» являлся, быть может, наиболее удачным произведением, поскольку удостоился сразу двух версий: полнометражной для проката в СНГ, и пятидесятиминутной — для французского ТВ.
Фильм повествует о сотруднике чрезвычайной комиссии при СНК периода Красного террора: без малого весь фильм глава губернского ЧК Срубов сотоварищи утверждает и приводит в исполнение составленные «наверху» расстрельные списки. На протяжении полутора часов будут переводиться пятерками люди обреченной эпохи, пока, наконец, обезумевший Срубов сам не ринется под пулю расстрельной бригады.
Когда в фильме «Капо» Понтекорво использовал тревеллинг, чтобы запечатлеть гибель бросившейся на проволоку концлагеря женщины, выделив при этом руку, свисающую с прутьев, Жак Риветт со страниц Cahiers du cinéma выразил режиссеру «глубочайшее презрение» за недопустимую надуманность этого кадра. Включи спустя тридцать три года Риветт французский седьмой канал в тот самый момент, когда там давали «Чекиста», Рогожкин оказался бы как никогда близок к упоминанию в Cahiers.
Там, где Понтекорво оступился, Рогожкин нашел воздух, которым можно накачать сценарий. Безвольно опавшая после расстрела женская рука, данная тем же тревеллингом? Пожалуйста, но давайте вложим в нее еще и папиросу. Давайте разбавим серьез повествования сценой, в которой два еврея презабавно таскают друг друга за волосы, хотя один из них уже приговорен к казни другим. Давайте создадим непотребно долгий эпизод, в котором нагие статисты одна партия за другой отправляются на расстрел. (Подозреваю, что в телевизионные 53 минуты удалось уложиться, урезав именно его.) Эпизод достаточно долгий, чтобы заучить механику человекоубийства в отдельно взятом подвале и, увидев финал со Срубовым, который вбегает на расстрел пятым номером, не поверить в это.
Между историями «Чекиста» и «Шпиона» пролегает почти столько же лет, сколько и между самими этими фильмами. Герой первого фильма — это человек, находящийся в непрерывной рефлексии по поводу происходящих событий, осознающий бремя историзма собственной жизни — и притом обреченный: не сойди Срубов с ума в эпоху Красного террора, он был бы обречен в тридцатые годы. Срубов может быть заурядным человеком и потому не вынести этого бремени, он может ошибаться — но ему случилось существовать в период, когда пропуски в историю выписывались на удивление просто.
Совсем другое дело — Дорин из «Шпиона». Бездумный молодчик, теряющийся всякий раз, когда от него не требуют экшна, он пребывает в счастливом беспамятстве (что для него коллега из прошлого Срубов?) и, кажется, был бы искренне удовлетворен собственным неведением, не свались на него Бондарчук-Октябрьский вместе с историческим вызовом, который, само собой, оказался ему не под силу.
Нет ли в этой трансформации героя, на которую потребовалось двадцать лет, чего-то близкого тому, что произошло в минувшие два десятилетия и с самим отечественным кинематографом?
Читайте также
-
Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»
-
Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда
-
Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина
-
Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо
-
Близкие контакты — Итоги XXII «Духа огня»