Любовь

Джина Роулендс в фильме Женщина под влиянием (1974)
Кассаветис сам все сказал о своих фильмах — и сделал это гораздо точнее, чем любой критик. Можно попробовать перекассаветить Кассаветиса — нанизывать эпитеты и пытаться передать ощущения, возникающие от его фильмов, анализировать работу оператора и препарировать способ монтажа. Можно заново изобретать термин «независимое кино» и говорить о том, как клишированность голливудских сказок, отголоски европейской «новой волны», театральный опыт и прочие обстоятельства места и времени повлияли на возникновение этих фильмов. Можно, в конце концов, снимать свое кино, пытаясь повторить Cassavetes feel: заставлять персонажей неразборчиво бормотать, рыдать посреди веселья, чувствовать себя крайне неуютно или длить эпизод, когда его давно пора бы закончить, — но в любом случае это будет умножение сущностей, подделка эмоций, упражнение по вчитыванию и вычитанию смыслов. Воссоздание детской травмы динозавра по его берцовой кости.
А смысл в его фильмах только один: любовь, самое обыденное, что происходит с человеком. И одиночество как часть любви и ее движущая сила. («Одиночество меня завораживает», — говорил Кассаветис.) И все остальное, что идет рядом с любовью и оказывается ее оправданием или побочным эффектом: похмелье, страх смерти, темные очки, дети, выстрелы в соседней квартире. Герои всех фильмов Кассаветиса ищут любовь, ищут способ с ней справиться, бегут от нее; потоки дождя по стеклам, и
Пресловутый Cassavetes feel — это не только сырая, неотрепетированная эмоция (которую иногда путают с импровизацией), перенасыщенный эмоциональный раствор, не только честность и нелитературность реакций, но и отношение к актерам: Кассаветис не зря говорил, что финалы его фильмов вырастали из актерских эмоций, и он чаще всего не знал заранее, чем закончится фильм, что сделают актеры из этого сюжета, куда они его приведут. «Нет в фильме
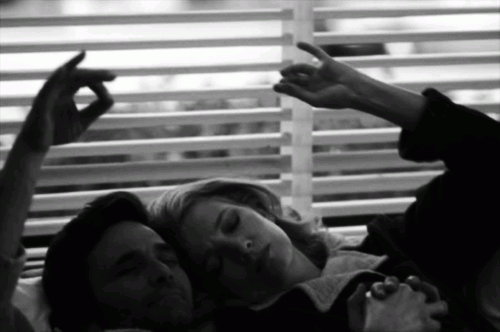
Женщина под влиянием (1974)
Хотя нет, фильмы Кассаветиса — это не вселенная, это тюрьма, и выхода из нее нет. О «Женщине под влиянием» он говорил:
Я знаю, что любовь, с одной стороны, создает великие, прекрасные мгновения, а с другой стороны, она сажает вас в тюрьму. Мне просто кажется, что женщины одиноки, и их собственная любовь — их тюремщик… Мужчина тоже это ощущает. И никто не знает, как с этим справляться. Никто не знает, как с этим справляться1.
Любовь, влюбленность, пустота, страсть, одиночество, семья. Никто не знает, как с этим справляться. Но не секс, не смерть, не интеллектуальные игры: с
Кассаветис предпочитает оставлять секс и смерть за кадром — и как частное, интимное занятие каждого, и как всеобщую, а потому не очень интересную работу рода человеческого. (В фильме «Убийство китайского букмекера» в момент собственно убийства видно лишь лицо убийцы — то в фокусе, то расфокусированное.) Любовь — другое дело: каждого она корежит
«Потоки любви», прощальный фильм Кассаветиса по пьесе Теда Аллена, собрал отголоски всех работ режиссера, но наиболее точно он рифмуется с «Женщиной под влиянием». И это женская рифма: безумная Мэйбл, безумная Сара (обе — великая Джина Роулендс). У Мэйбл — дети, муж. У Сары — муж, который с ней развелся, дочь, которая хочет жить с отцом, и еще брат Роберт — правда, до середины фильма не очень понятно, что он ее брат. Обе героини никак не могут вычислить правила, по которым принято существовать, правила, позволяющие людям быть счастливыми. Правила общежития никак не сочетаются с правилами любви.

МиннииМосковиц (1971)
В фильме «Женщина под влиянием» слово «люблю» произносится не однажды, но всякий раз оно направлено не туда или не находит ответа. Всякий раз, без единого исключения. Вот Ник говорит Мэйбл по телефону, что не придет сегодня домой, так как у него важная работа. И заканчивает фразой «Я люблю тебя». Она отвечает: «Это ничего, Ник, все в порядке», — то есть предпочитает не слышать «люблю», потому что это слово здесь ничего не значит. Позже, оправдывая свое неадекватное поведение за столом, она говорит: «Я люблю этих парней, я люблю всех, кого ты приводишь в дом, Ник», — и он тоже воспринимает это как извинение: «Ты не сделала ничего плохого».
Возможно, в этом одна из разгадок Cassavetes feel: у него персонажи редко реагируют на слова, чаще — на действия, еще чаще — на эмоции, и реагируют с непосредственностью детей, животных или предметов мебели. Так разваливается сломанный стул, если сесть на него с размаху. Так плачет ребенок, почувствовав ваше раздражение.
Много раз слово «люблю» прозвучит во время припадка Мэйбл, в присутствии врача. Здесь «люблю» будет попыткой достучаться, успокоить,
— А дети?
— Я люблю тебя.
— Они могут пойти со мной?
— Я люблю тебя.
Любовь, дети и Ник для Мэйбл — совершенно разные точки отсчета. В кульминационный момент эпизода с врачом Мэйбл решится сказать это Нику, но он опять не услышит, закроется своим «я люблю тебя».
— Вот пять точек отсчета, Ник. Я подумала, и это важно для меня. Для нас. Первая — это любовь. Вторая (неуверенно) — дружба, и третья (еще более неуверенно) — наше… благополучие. А четвертая… я хорошая мать, Ник!
— Мэйбл, я люблю тебя.
— Я принадлежу тебе. Вот и все. Вот пять важных вещей.
Любовь — это данность, агрегатное состояние живых существ. Принадлежать
Ни одно «я люблю тебя» Ника не находит у Мэйбл ответа, пока она не в себе. Но в самом финале фильма она — уже почти излечившаяся, взрослый человек, а не ребенок и не предмет мебели — вдруг спрашивает Ника: «Ты любишь меня?» — и он говорит: «Я,

Потоки любви (1984)
Иногда мне кажется, что Ник снова отвечает на эмоцию, а не на слова. «Я хотела бы, чтобы все было хорошо, чтобы все было в порядке», — говорит на самом деле Мэйбл. Если бы он ответил: «Я тебя люблю», — а слова он всегда использует неловко, по касательной, не вовремя, — это, как всегда, означало бы «прости». А он затевает уборку, и это означает: «Люблю; все будет в порядке».
Иногда же мне кажется, что Ник может любить лишь безумную Мэйбл, настоящую, не знающую правил. Женщину под влиянием, женщину, которую он не понимает. («Она не сумасшедшая, просто я не всегда ее понимаю».) И это перекликается
с частой мыслью Кассаветиса: не надо понимать этих персонажей, надо относиться к ним как к людям — то есть любить их или ненавидеть.
Так или иначе настоящая проблема, настоящий, страшный сюжет «Женщины под влиянием» — не в безумии Мэйбл и не в том, что семейное счастье оплачено высокой ценой. Настоящий сюжет — это путешествие слова «люблю» от него к ней. По дороге оно забывает, кто оно, и что это за люди рядом с ним.
В «Потоках любви» любовь уже не точка отсчета. «Любовь — это поток. Он бесконечен. Он не останавливается», — говорит Сара, полностью погруженная в этот поток. Многие путают это погружение с безумием. «Ваша любовь слишком сильна для вас», — объясняет ей психоаналитик. Ее брат Роберт вообще любить не умеет, он пишет книги, и любовь для него — это товар или фантазии маленьких девочек. Он последовательно не справляется с любовью к женщинам, к сыну, он не понимает, зачем ему заботиться о дурацких животных, которых из лучших побуждений покупает Сара.

Лица (1968)
Сара говорит слово «любовь» постоянно, это для нее — защита, оправдание, idée fixe. Единственная реакция на любые военные действия этого мира. «У меня есть проблема, — признает она в офисе у адвоката по бракоразводным делам. — Я люблю свою семью. Я люблю его и люблю ее, я люблю их, только их. И… когда я не могу приносить им радость…»
Любовь — это проблема, попытки принести радость убийственны. Любовь — тюремщик. В самом безжалостном из сновидческих эпизодов фильма Сара пытается рассмешить мужа и дочь, и когда у нее не получается, делает сальто в бассейн, чтобы уже не выплыть. Роберт тоже не может принести радость своему сыну — он просто не знает, как это делается.
Финальный припадок Сары связан с тем, как она воспринимает брата. Похоже, ей кажется, что они с Робертом — нечто вроде сообщающихся сосудов: если он найдет баланс, научится любить, то и у нее любви станет чуть меньше, и тогда она перестанет изводить своих близких. Возможно, она права: Сара и Роберт — двойники, антиподы, она любит, он позволяет себя любить. Она бросается под дождь, он остается в доме. Она решает свои проблемы во сне, выплескивая эмоции в сновидческую реальность. Он видит сны наяву, ничему не удивляясь. Когда Сара говорит врачу, что не знает, кто она, Роберт, отталкивая врача, бросается к ней с вопросом: «Кто я? Скажи, кто я?»
Наверное, это вот и есть любовь: знать, кто этот человек, который рядом с тобой. Это и есть любовь — когда врываешься в жизнь другого и приводишь с собой двух пони, козла, птиц и огромную собаку. Это и есть любовь, когда наконец отказываешься от идиотских метафор.
Рэй Карни в книге «Кассаветис о Кассаветисе» утверждает:
Самый серьезный комплимент, который Кассаветис мог сделать человеку или персонажу: он или она «шли дальше», «не сдавались». <…> Победа была не так важна, как настойчивость. Жить — это не побеждать, это продолжать работать и любить вопреки всему2.
Это объясняет все недоговоренности в фильмах Кассаветиса. Смертельно ли был ранен Космо Вителли? Неважно, он пойдет дальше и будет продолжать работать. Будет ли счастлива Сара? Неважно, она так и будет болтаться в этом потоке. Ты любишь меня? Неважно, давай приберем этот бардак. Кто я? Скажи, кто я?
• • •
В Лос-Анджелесе, в Вествуде, есть маленькое кладбище. Я попала туда на экскурсию совершенно случайно, вообще ничего о
Кассаветис…».
— Где?! Где Кассаветис? — услышала я свой крайне возбужденный вопль.
— Я вам покажу, сейчас вот посмотрите пока могилу великой
Мэрилин, баба умерла в тридцать шесть, да? А ее имя известно всему миру…
Я не знала, что Кассаветис похоронен в Лос-Анджелесе. Я вообще не думала, что он похоронен. Умер, да. Перестал существовать физически. Остался на экране. Но похоронен? Но вот в этой земле?
На могиле, простой каменной плите, в полтора ряда выложены монетки. Десять центов, четвертак, доллар, еще десять центов. На свой первый фильм Кассаветис собирал деньги с будущих зрителей. По радио объявил, что делает кино, и попросил прислать сколько не жалко. Меня тогда еще не было.
Я вывернула карманы, продолжила ряд монеток. Остальные туристы, глядя на мои дрожащие руки, неуверенно начали фотографировать могилу
— За полгода вы первая, кому знакомо имя Кассаветиса, — сказал он. И такая у него послышалась тоска в голосе, что я вдруг поняла: приехал сюда в девяностые, хотел быть актером, играть русских бандитов и балетных танцоров, отучился в киношколе, совался в разные актерские агентства, возможно, сыграл в эпизоде. В двух. Никому не нужен.
И вот это и есть Cassavetes feel: вы ничего не знаете о людях, которых видите, но вам кажется, что вы знаете о них все.
А когда все это оказывается правдой, это и есть любовь.
1 Carney R. Cassavetes on Cassavetes. London—NY, 2001. P. 315. Назад к тексту.
2 Carney R. Op. cit. P. 479. Назад к тексту.
Читайте также
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
Перемещенные города, перевернутые смыслы
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана
-
Szerencsejáték Támogatás







