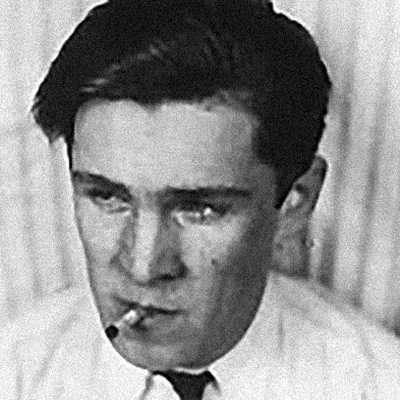Россия, тридцатые годы
СЕАНС — 49/50
О советском присутствии. Не только в Афганистане, но и на Адриатическом побережье по случаю 16-й Мостры в Пезаро (мостра — это не монстрица, а что-то вроде демонстрирования).
Внушительная советская делегация (историки, кинематографисты, идеологи, стукачи), прибывшая курировать мероприятие, которое в этом году посвящено двум историческим периодам советского кино: 30-м и 70-м. Неделя показов, три коллоквиума и, в заключение, просмотр последнего фильма Тарковского «Сталкер». Констатируем: если фильмы 70-х оказались совершенно незапоминающимися, то вновь открытые Soviet thirties принимались с большим воодушевлением. Речь идет о переломном десятилетии: именно тогда повсеместно (и постепенно) происходит переход от немого кино к звуковому и одновременно с этим формируется догма социалистического реализма (так же постепенно; догма всегда рядом, не будем этого забывать). Мощную идею предыдущего периода, идею монтажа, в 30-е годы бальзамируют, а затем забрасывают. К ней больше не вернутся. Как недавно заметил Годар, «надо было разрушить монтаж, поскольку именно он дает видеть». И зрители в Пезаро пришли, чтобы видеть. Чтобы видеть это разрушение. Легкомысленные хихикали при каждом, от плана к плану, появлении Сталина (в слове или в образе). Более серьезные пытались, на удивление самим себе, датировать этот «решительный поворот», выискивали признаки оледенения, зачатки склероза. На самом же деле к 1936 году, к моменту утверждения Сталиным первой советской Конституции и к моменту выхода первой звуковой картины Герасимова, глашатая социалистического реализма, партия уже сыграна. Но какая партия!
Звук как цель
Для СССР переход к звуковому кинематографу был чреват проблемами, которые нельзя сводить исключительно к установлению сталинской эстетики. Как и во всем мире в то время, в СССР обуздание кино, его нормализация и эволюция в сторону так называемой «классической модели» — явление куда более широкое и глубокое; связано оно со стремительным ростом имперских амбиций, которые подчинили себе кинематографию. «Классическое» кино — это кино промышленно произведенное, морализаторское, болтливое и одномерное. Именно такое кино подготавливало к войнам. А в переживании войн рождалось новое кино (правда, в Европе, а не в империях — американской или советской). Впрочем, советская делегация, прибывшая защищать — робко и не очень в нее веря — догму соцреализма в случае, если на нее вздумают посягнуть, была от такой постановки проблемы весьма далека. Поэтому кроме некоторой брезгливости она вызывала еще и глубочайшую жалость. Приходилось обходиться без нее. По сути, специфичность советского перехода от немого кино к звуковому заключается в том, что переход этот осуществлялся абсолютно прозрачно и совершенно сознательно переживался всеми: актерами, политиками, кинематографистами, зрителями. Звук был всеобщей целью. И это желание звука следует рассматривать как контрудар — теоретический и волюнтаристский — по развитию киномонтажа 20-х годов. Похоже, с 1930 по 1935 год происходит резкая смена альянсов: после смещения Луначарского в 1929-м политики бросают на произвол судьбы ту часть авангарда, которая поступила в их распоряжение, а ее эксперименты (монтаж, разрывность, стиль и эксцентричность) приспосабливают к восхвалению режима. Подход «шарахнутый зритель, взрытая психика» теперь видится тупиковым. Политики заключают «альянс» с широкой публикой, которая больше терпела, чем любила этот наделенный властью авангард. Атакуемые с тыла, кинематографисты приспосабливаются к изменившимся обстоятельствам. В период с 1929 по 1938 год (год выхода «Александра Невского») Эйзенштейн путешествует и не заканчивает ни одного фильма. Вертова тогда же понижают в чине, а затем долго распинают. Момент перехода к звуковому кино — это время резкой смены альянсов. Самое невероятное то, что к звуковому кино стремятся все, но с разными целями. Политическая власть — чтобы проталкивать директивы и возносить положительных героев; кинорежиссеры — чтобы распространить эксперименты и на сферу звука, рассматривая его как особый материал для киномонтажа; массовые зрители (великие немые в этой истории) — чтобы наконец-то услышать, как говорят (а еще лучше — как поют) на их языке. Письмо — на выход, устная речь — на вход. Клубок противоречивых интересов и уникальная ситуация в истории кино: режиссеры хотят пробовать звучание, политики — насаждать изречения, а зрители — слушать пение. Как все это далеко от смятений и сомнений, вызванных «извержением» звука на Западе (Чаплин в США, Клер во Франции)!

Два звучания
Потребовалось политическое решение, чтобы со временем оснастить звуковой аппаратурой студии и залы страны, причем без иностранной помощи. На это ушло пять лет. Пять лет, в течение которых увидели свет все промежуточные формы (звуковые версии немых фильмов, полностью или частично озвученные немые фильмы — иногда с использованием симфонической музыки). Это были лучшие картины из показанных в Пезаро. В СССР, как, впрочем, и везде, звуковое кино первых лет оказалось наиболее изобретательным; ему до сих пор удается сохранять свою свежесть. В замечательном выступлении на одном из трех коллоквиумов в Пезаро Бернар Эйзеншиц процитировал заявление Пудовкина в лондонском Film Society в 1929 году, весьма характерное по умонастроению для передовых режиссеров того времени:
«Я предвижу кино, в котором звуки и человеческая речь будут переплетены с визуальными образами, подобно тому как две мелодии, или даже больше, сплетаются в оркестровой музыке. Звук будет соответствовать фильму так же, как сегодня фильму соответствует оркестр. ‹…› Но никогда нельзя показывать человека и воспроизводить его слова, точно синхронизируя их с движением губ»
В те же годы своими соображениями делился с режиссерами и более прагматичный товарищ Сталин (об этом позднее расскажет Александров):
«Весь мир внимательно смотрит советские фильмы, и все их понимают. Вы, режиссеры, даже не можете себе представить, какая ответственная работа вам доверена. Будьте серьезны и внимательны к каждой сцене, к каждому слову ваших героев. Помните, что вашу работу будут судить миллионы людей. ‹…› Детально изучайте звуковое кино. Для нас это очень важно. Когда наши герои смогут говорить, сила влияния фильмов колоссально увеличится»
Понятно, что здесь озвучены два мнения, столкновение которых чревато недоразумением. Историю этого недоразумения удалось частично проследить в Пезаро.

Слушание. Козинцев, Трауберг и Шенгелая
В 1931 году Карл Радек посвящает свою знаменитую статью в «Известиях» двум фильмам. Он обрушивается на один и защищает другой. Первый — «Энтузиазм» Вертова, второй — «Одна» Козинцева и Трауберга. В Пезаро не показали «Энтузиазм» (досадное упущение), зато представили «Одну». Для обеих картин характерна очень серьезная работа над звуковым материалом. Вертов пробует сделать что-то вроде звуковой афиши (другое название
фильма — «Симфония Донбасса»); Козинцев и Трауберг рассказывают о приключениях молодой учительницы, отправленной на Алтай, о ее борьбе с местными кулаками и бюрократом председателем сельсовета (которого очень хорошо сыграл Герасимов). Радек поддерживает «Одну», а в фильме Вертова усматривает лишь «какофонию Донецкого бассейна». Знак времени: с вертовской мечтой о неигровом кино покончено. Нам, в 1980 году, в обоих фильмах — как в игровом, так и в неигровом — кажется прекрасным то, что вера в социалистическое будущее подкрепляется открытием нового материка, целого континента звука. И оба фильма вызывают доверие (которое будет одинаково обмануто). Помнится, в самом начале «Энтузиазма» крупным планом дается ухо телеграфистки. То же самое внимание к уху и в «Одной»: с одной стороны — серия несинхронизированных, гиперреалистических, полуприснившихся шумов, целый мир, в который героиню (красавицу Елену Кузьмину) не просто погрузили, а с наслаждением окунули; с другой стороны — оркестровая партитура, написанная специально для фильма Шостаковичем. Эту основополагающую чувственность звукового материала советское кино утратит лет через пять ради вялого дубляжа и помпезной музыки. И то, что эта чувственность по времени совпала с выходом на авансцену ярких героинь (у Довженко, у Барнета), мне кажется вовсе не случайным. Всякий раз «высвобождение звука» сопровождалось пробуждением, расцветом женских образов.
Тему слушания мы находим, как это ни парадоксально, в немом фильме 1932 года, который стал одним из сюрпризов в Пезаро: «Двадцать шесть комиссаров» грузинского режиссера Николая Шенгелая (один из сыновей которого снял фильм о Пиросмани). Редко в каком фильме можно так увидеть, что значит слушать, что представляет собой акт слушания. Действие происходит в Баку в 1918 году: большевики, оказавшись в меньшинстве, отдают город меньшевикам, которые спешат перейти под английский протекторат. Англичане, которым нужна только нефть, выводят и казнят 26 комиссаров-большевиков, оставшихся в Баку (сцена расстрела посреди голой пустыни, в низине за барханом, производит очень сильное впечатление). Особенно поразительна длинная сцена совещания, на котором Партия остается в меньшинстве: чтобы снять всех этих выступающих перед публикой, спорящих, ругающихся, перебивающих друг друга и воздевающих руки людей, Шенгелая вынужден дробить действие, уводя его на уровень совершенной абстракции, осложнять восприятие высказывания неожиданными стилистическими эффектами. Более того, переход от одного плана к другому (что характерно для советского кино того периода) осуществляется не через взгляды персонажей (знаменитый монтаж «встык»), а через само содержание того, о чем они говорят, — здесь с помощью титров. Эти пламенные или лукавые, возбужденные или испуганные взгляды все еще обращены внутрь. Так достигается напряженность; и поддерживается она благодаря постоянной слуховой галлюцинации, которая в этом немом фильме уже принадлежит говорящему кино, но о которой говорящее кино вскоре забудет.

Музыка. Савченко и Донской.
Эта манера запечатлевать слушание — уже пережиток прошлого. Работа над звуковым материалом отходит на второй план, и даже если некоторые при реализации кинематографического вымысла делают ставку на звук, то речь идет уже о совершенно специфических звуках — о звуках музыки. В этом смысле приятным сюрпризом оказался первый полнометражный фильм Игоря Савченко и один из первых советских «мюзиклов» под названием «Гармонь» (1934). Лучший гармонист — еще и лучший работник колхоза. Избранный секретарем комсомольской ячейки, а затем и в местный совет, он считает себя уже не вправе музицировать и забрасывает гармонь в сарай. Но ошибается: жизнь становится тоскливой, а молодые кулаки дезорганизуют деревню, играя уже свою музыку (нервную и подозрительную). В последний момент герой достает свою гармонь и, по выражению Джея Лейды, «воспевая веру и надежду, побеждает врага и отвоевывает свою возлюбленную». Провал фильма в 1934 году свидетельствует о том, что эта глуповатая нравоучительность (а какая нравоучительность не глупа?) оказалась неубедительной. Сегодня в «Гармони» поражает совершенно необычная, оригинальная манера вводить в фильм танцы и песни, меняя ракурсы, обрывать вступления, чтобы затем очень удачно связывать все в некое подобие речитатива. Все это создает настроение чувственности, влечения, летней украинской ночи и т. п. Музыка затрагивает струны души, но ее саму пока еще не приструнили.
Музыка может стать даже полноправным сюжетом — как, например, в первой кинокартине Марка Донского «Песня о счастье» (1934), снятой в соавторстве с Владимиром Легошиным. Кроме главного достоинства, присущего и последующим работам Донского (он замечательный рассказчик), этот фильм открывает нам поразительный мир, где звук — все еще счастливая неожиданность, мимолетный просвет между шумами (которые уже уходят) и речью (которая еще только грядет). Ключ к «Песне о счастье» в вопросе «А как умеешь звучать ты?» Фильм — это история звука флейты, который заглушает все остальные звуки: батрак думает, что в драке убил своего хозяина-кулака, сбегает, бродяжничает, попадает в исправительную колонию, где обнаруживают и поддерживают его музыкальный дар; он становится виртуозным музыкантом, но по-прежнему терзается угрызениями совести, меняет имя и внешность, в последний момент узнает, что убийства не совершил (Партия все знала, но молчала), возвращается к правильной жизни и готовится дать свой первый концерт. Как это часто бывает у Донского, благодаря популизму, легкости и поверхностности — причем скорее аполитичной (именно из-за этого Донской и станет совершенно официальным режиссером), — фильм и сегодня сохраняет всю свою свежесть. Превращение маленького дикаря в ученую мартышку во фраке — так сказать, «слишком красиво, чтобы быть правдой»: сегодня, как и вчера, от этого можно получать удовольствие, не очень-то в это и веря.

Талант Райзмана
Далеко от Савченко и Донского, на другом краю кинематографического спектра, располагается очень значительный режиссер Юлий Райзман с малоизвестным и недооцененным фильмом (по-моему, насчет него ошибается даже Митри1) — шедевром «Летчики» (1935). Райзман был одним из первых советских режиссеров, которые систематически записывали звук прямо на съемочной площадке. То, что он требует от звука, сближает его с мак-магонской2 концепцией мизансцены: соблюдать аудиовизуальный континуум, не поддающийся подделке. Звук не поясняет изображение и не вторит ему: он удостоверяет. Постановка должна быть явлена во всем: в расположении предметов, в содержательной насыщенности декораций, в непредсказуемой грациозности персонажей, в их устремлении и неподвижности. Умение обращаться со всем этим делает Райзмана крупным режиссером, в чем-то схожим с Хоуксом («Утренний патруль» и «Только у ангелов есть крылья») и Гремийоном («Небо принадлежит вам»; Le ciel est à vous, 1944). Любовь и достоинство в летной школе, стойкость и мужество, влечение зрелого мужчины к слишком юной ученице: это еще и мир не наигранных, не подвластных выражению чувств. Из наследия этого очень «американского» Юлия Райзмана (советская делегация вяло запротестовала против такого определения) историки кино обычно выбирают лишь «Последнюю ночь» (1936), которая в Пезаро также была показана и сильно разочаровала. Фильм блестящий во всем, что касается топографии: Петроградская сторона в октябре 1917 года, превращенная в поле боя, последняя ночь старого мира, восстание, разлученные семьи, шальные пули, мутный хаос и классовая ненависть. Однако в трактовке положительных героев есть что-то отталкивающее, теоретическое, выхолощенное: ключевой персонаж — неутомимая и суетливая мать — прыгает весь фильм, ничего не понимая, как розовая пантера в косынке. Удивительная последняя сцена не лишена юмора: на станцию, за которую бьются белые и красные, прибывает бронепоезд, ощетинившийся дулами винтовок: друзья или враги? Никто не решается подойти к застывшему у перрона поезду. И только неуемная мать идет вдоль вагонов и спрашивает у солдат (за кадром): «Ну, ребята, в кого стрелять будете?» Смех. Это, конечно же, свои.
1 Жан Митри (1904–1988) — кинокритик, теоретик кино, режиссер, автор пятитомной «Истории кино», один из основателей Французской cинематеки.
2 Мак-магонцы — группа киноманов, сложившаяся в конце 50-х вокруг кинотеатра на улице Мак-Магона, 5. Мак-магонцы мечтали произвести революцию в общественных вкусах; их кумирами были малоизвестные или забытые (на тот момент) режиссеры: Ф. Ланг, Д. Лоузи, Р. Уолш, О. Премингер. Идеологом группы был Мишель Мурле (р. 1935), автор статьи «Об игнорируемом искусстве» (1959) в Cahiers du cinéma N 98, главный редактор журнала Présence du cinéma (1961–1967) (Примеч. ред.).
Гений Барнета
Два фильма: очень известная «Окраина» (1933) и менее признанный «У самого синего моря» (1936). Пока кино Бориса Барнета еще всерьез не изучено (пусть даже лондонский National Film Theatre и воздал ему должное в июле этого года), нам придется довольствоваться превосходными степенями прилагательных. Мало причислить Барнета к официальному списку достижений советского кино, мало отметить, что в Cahiers (и не только там) его любили всегда (у Годара есть очень красивый текст о «Щедром лете»); нужно прямо сказать, что это — великий режиссер, отнюдь не случайно почитаемый одновременно такими разными художниками, как Тарковский и Иоселиани. У Барнета звук задействован на всех уровнях, причем с равной тщательностью и одинаковой изобретательностью. Сюжетная канва «У самого синего моря» (что-то вроде «в каждом колхозе найдется девчонка», но только без цинизма) довольно проста. Два парня терпят кораблекрушение в Каспийском море, их спасают колхозные рыбаки с ближайшего острова, на который они как раз и направлялись. В колхозе они встречают Машеньку (все ту же красавицу Елену Кузьмину), влюбляются в нее. И становятся соперниками. Алеша теряет голову и охладевает к работе. Юсуф изобличает его публично. В море происходит выяснение отношений между тремя героями. Начинается шторм: Машеньку уносит волной. Все считают ее погибшей. Потрясение и траурная церемония в колхозе. Но Машенька возвращается целая и невредимая. Молодые люди упрашивают ее выбрать одного из них. Она признается, что вдали от колхоза у нее есть жених, и она его любит. Друзья возвращаются на свою лодку. Как и во многих хороших фильмах, здесь мало что происходит, а если и происходит, то с поразительной быстротой. Нужно видеть, как сделаны неожиданные переходы от тишины к музыке, от немоты к шуму; как спокойное море вдруг начинает штормить. Нужно видеть, как камера следует за движением волны и опускается под воду (редко кто так красиво снимал море). Это нужно видеть, потому что это не передать словами. Барнет, так же как Гриффит, Фуллер или Бергман (в фильмах «Лето с Моникой» или «К радости»), — режиссер того, что проживается и решается в мгновении. Он передает не что иное, как ликование человека от того, что он жив и над ним солнце, что он открыт всем ветрам, всем звукам, всем чувствам. Митри (на 424 странице IV тома своей «Истории кино») очень верно заметил:
«Одни и те же образы означают порой одно и то же, а порой что-то разное; одни и те же идеи выражаются иногда образами, которые говорят то, что показывают, а иногда образами, которые говорят совсем не то, что показывают»
Незабываемый момент: сокрушающийся Юсуф видит выходящую из воды Машеньку, которую считал погибшей, долго смотрит на нее, как во сне, затем, словно пугаясь привидения, отступает на три шага и вдруг бросается к ней. Как рассказать о таком же движении вспять Машеньки, которая, вернувшись и увидев скорбные лица колхозников, спрашивает: «Кто умер?» Возможно, именно эти стремительные порывы и отступления, этот монтаж побуждения и есть самое ценное в искусстве Барнета.

Образ, типаж, фольклор
Я понимаю, что этот беглый обзор 30-х годов можно упрекнуть в формализме. Нужно было бы сделать обозрение фильмов через призму исторических отсылок, с учетом контекста. О чем они рассказывают и как искажают историю СССР? Когда-нибудь к такому изучению надо будет подойти методично (как в 60-е годы сумели дать правдивую оценку покорению Запада в противовес американской легенде). Пока же достаточно сказать, что это кино, снятое с точки зрения победителей (то есть тех, кто выжил), часто лжет и замалчивает: по принуждению, из страха, по инерции или сознательно. Редко бывает, чтобы кино с таким небрежением игнорировало общество, которое его создает, и это — верх иронии! — в стране, где теория реалистического отражения жизни в искусстве задушила остальные теории и продолжает главенствовать. Несомненно, это ирония кажущаяся. От одной только мысли, что жизнью (и смертью) для миллионов людей в то время был создававшийся ГУЛАГ, кружится голова: в фильмах ничего об этом нет. Но возможно, гениальный критик или антрополог сумел бы уловить какое-то отражение этого — разумеется, не в сюжетах фильмов, а именно в их форме. Без формализма не обойтись. Следует предположить, что всегда существует нечто общее между типом политической власти и манерой указывать кинозрителю его место. Особенно очевидно это в контексте 30-х.
Например, при просмотре такого фильма, как «Семеро смелых» (1936) Сергея Герасимова, закрадывается подозрение, что бойскаутский рассказ о суровом полярном быте транслирует идеальный, чистый, «здоровый» образ ГУЛАГа. За будничным героизмом горстки метеорологов, отправленных на дальний Север, нельзя не различить Сибирь, лагеря и принудительные работы. Кинематограф попадает в зависимость от культа личности (апогей зависимости — послевоенные фильмы Чиаурели, которые уже невозможно нигде увидеть), и следует ясно представлять себе оставшийся без отображения геноцид. Позднее будет свидетельствовать литература (Солженицын), но не кино. Чем жестче кодифицированы типажи, чем полнее иллюстрирован идеал, тем ярче следует представлять, как изгоняются из социального тела (и из разрешенных образов этого тела) все отрицательные типажи. Чем чаще экран заполоняют идеальные образы, тем обеспокоеннее следует их воспринимать. Если поместить кино в контекст истории изобразительного искусства, изучение советских фильмов оказалось бы весьма увлекательным занятием. В них — лучше, чем где бы то ни было, — мы бы увидели, как произошел переход от заинтересованности человеческим образом (оптимистичной у Вертова, карнавальной у Эйзенштейна) к полиции типажей. В 20-е годы художники задумываются о том, как встроить человека в цепь репрезентаций, где-то между животным и машиной (отсылаю читателя к статьям Cahiers N 271 о «Генеральной линии»); в конце 30-х в цепях остаются только люди. Список разрешенных сюжетов постепенно сокращался и свелся (в современном советском кино) к мелкому провинциализму. Произошел переход от образа к типажу, а от типажа — к фольклору. В фильмах 70-х годов, показанных в Пезаро, куда больше, чем неравная одаренность (хотя есть очень хорошие режиссеры — например, Василий Шукшин), поражает то, что я назвал бы автофольклоризацией кино.

Тарковский, «Сталкер» и вера
Последний фильм Тарковского «Сталкер» — находящийся в резком противоречии с лукавой непритязательностью прочей современной советской продукции — задел меня, может быть, рикошетом. Это закономерная судьба такого кино: оно продолжает иметь вселенскую значимость, потому что советская мечта (даже сейчас, особенно сейчас — когда она стала кошмаром) волнует остальной мир (а не только Афганистан). Сатира на «реальный социализм» на фоне алкоголизма (а ля Данелия), ловкое перечитывание великих классиков литературы XIX века (а ля братья Михалковы) — это одно; скорбь по советской мечте — другое. Но есть ли для нее место?
В «Сталкере» Тарковский представляет, что в результате падения метеорита и по неясным причинам целая территория закрыта и заброшена: эту no man’s land охраняют испуганные солдаты, которые стреляют в любого, кто пытается туда проникнуть. Это место — Зона, застывший, одичавший индустриальный пейзаж, тошный и блистательный пейзаж, который подстегивает воображение и порождает суеверия. Около Зоны, в нищете и вне закона, живет сталкер, который за скромную плату проводит за забор тех, кто из любопытства или в поисках острых ощущений готов пуститься в авантюру. Фильм начинается в заведении, которое Зиновьев именует забегаловкой: сталкер берется провести двух «туристов» — писателя, переживающего кризис, и физика, которого называют просто Профессором. Фильм — рассказ об их экспедиции в Зону и возвращении в забегаловку. Они рассуждают, спорят, пугаются, тревожатся, затевают обманчивую «игру в истину». С трудом пробираются через густые заросли и груды металлолома, поляны с цветами без запаха и мрачные подземелья. По слухам, в Зоне есть заветное место, где исполняются все желания. Но дойдя до волшебной комнаты, все трое отказываются туда войти. Здесь и открывается правда: они согласны на свою участь в настоящем и не доверяют счастливому будущему. Как мы понимаем, вся жизнь сталкера, вся его радость — прокладывать по познанной им Зоне маршрут, быть ведущим в этом подобии детской игры. Он проводник, живущий лишь ради доверия, которое ему оказывают. Однако за время путешествия ничего не произойдет, и сталкер заключит с горечью: «Они же не верят ни во что… У них же… орган этот, которым верят, атрофировался!»
Итак, тема фильма — вера. Вера слепая. Режиссура фильма строго подогнана под этот более чем навязчивый вопрос: что там, за дверью? А если там еще хуже? Важно отметить, что все три персонажа фильма немолоды: камера безжалостно показывает их потрепанными, подточенными, отмеченными. У сталкера хотя бы есть семья: жена (которая в него верит, хотя принимает за блаженного) и парализованная дочка (как понятно из реплик, жертва мутации). Разумеется, совершенно обоснованно стоит остерегаться громких метафор (в Cahiers предпочитают буквальность), но при этом нельзя не приветствовать метафору, которая работает хорошо, то есть буквально и во всех смыслах. И конечно, нельзя не интерпретировать эту Зону — а она, подобно кафкианскому замку, одновременно реальное место и идея, территория и слово. Но я вижу силу фильма скорее в его буквальности, в терпеливом пути этих людей, несущих на себе и в себе всю усталость советской мечты, ставшей кошмаром, от которого никак не пробудиться. Может быть, никогда и не будет фильма о ГУЛАГе, (я имею в виду, советского фильма), но сталкер и его попутчики приходят к нам именно оттуда, из того неотображаемого места и исключенного из словаря слова. После Зиберберга и Вайды мы знаем, что работа скорби неотделима от размышления о самом изображении и о ложных кумирах. Вот этим, через радикальное неприятие натурализма, через профетическое вдохновение, нас и волнует Тарковский. Впрочем, это всегда было его основной темой: в истории художника («Андрей Рублев») и сквозь научную фантастику («Солярис» и «Сталкер») возвращается все тот же животрепещущий вопрос. Впрочем, научная фантастика — единственный живой жанр кино, где еще могут подниматься столь серьезные вопросы. И не только в СССР. Не будем забывать, что «Сталкер» снят в тот же год, что и «Чужой».

«Прагматичное и немного унылое»
Несколько слов, чтобы закончить с советской делегацией в Пезаро. Прибыв, чтобы кое о чем громогласно заявить, а кое о чем любой ценой умолчать, она разочаровала. Вопреки всякому правдоподобию ей предписывалось настойчиво указать на то, что 30-е годы являются абсолютным продолжением 20-х (странные марксисты, которых ужасает идея разрыва!). Ей надлежало утвердить догму соцреализма в противовес мелкобуржуазному нигилизму (кстати, руководитель делегации, несравненный Баскаков, раскритиковал Cahiers, Штрауба, Годара и его «Номер два» (Numéro deux, 1975) в смехотворной статье, переведенной на итальянский). И самое главное, ей предстояло как-то оправдать выбор фильмов. «Почему нет ни одного фильма Иоселиани?» — спросил кто-то. «Он очень хороший режиссер, — было сказано в ответ, — но никак не может представлять советское кино». В этом «представлять» — главное: все лишь представляет, но не существует; а раз не существует, то нечего и изучать. Отсюда уклончивые ответы, когда зрители Пезаро из чисто исторического интереса спрашивали о старых, мало известных, не пользующихся популярностью, официально незначительных режиссерах. Отсюда и раздражительность президента фестиваля Лино Миччике, которому надоел этот казенный язык. Анекдот: говоря о сталинском кино, Бернар Эйзеншиц использовал слово «склероз». Делегация явно погрустнела. «Мне не очень нравится это слово, я предпочитаю другое», — произнес один историк (по фамилии Зак), но не вспомнил, какое именно. «Мне тоже не нравится это слово, — подхватил другой историк (некий Юренев). — Я бы сказал, скорее, что это кино прагматичное… и немножко унылое». Смех в зале.
Cahiers du cinéma. 1980. N 315.
Перевод с французского Валерия Кислова