Цветы Тарба и послевоенная французская кинематографическая традиция
Историко-теоретические заметки
Современное французское кино отсчитывает свою историю от «новой волны» (то есть примерно с середины-конца 50-х), хотя корнями оно уходит в послевоенные годы. Годар как-то заметил, что французского кино как целостной национальной кинематографии не существует — это лишь группа индивидов и ничего больше.
Во Франции было столько кинематографистов, что в конце концов все поверили, будто там есть кино1.
По его мнению, в настоящих больших кинематографиях (в СССР, в Германии, в США, и, конечно, в Италии) всегда были фильмы о войне, Франция же не знала национального киноэпоса (за исключением Ренуара). Это так; но все-таки французское кино существует как некое единое явление. В первом приближении французские фильмы обычно ассоциируются с чем-то авторским, высококультурным и, скорее всего, довольно интимным. Годар так охарактеризовал французских кинематографистов:
Если им хочется снять фильм о своей подружке
и Елисейских полях, то они не понимают, с какой стати Голливуд может стать им помехой2.
1 Кинематограф сопротивления. Беседа Ж.-Л. Годара с Ф. Альбера и М. Ямпольским // Жан-Люк Годар. Страсть между черным и белым. Париж, 1991. С. 40.
2 Там же. С. 41.
СЕАНС — 49/50
Сколько таких изящных, умных фильмов «о своей подружке и Елисейских полях» было снято! Смотреть эти фильмы — часто удовольствие; и все-таки меня как зрителя порой не оставляет разочарование. Такого рода фильмы даже в лучших своих образцах (как, например, фильмы Ромера) редко становятся шедеврами, и, пожалуй, относятся к жанру «приятного». Как и многие высококультурные произведения, французские фильмы часто несут на себе печать вторичности. Эти фильмы легко забываются. Фильмы Ромера в моем сознании слились в некий единый образ, и я плохо помню, где именно видел тот или иной эпизод. Этого не скажешь о фильмах Орсона Уэллса или Сергея Эйзенштейна. С моей точки зрения, французское кино почти не знало великих режиссеров (кроме Жана Ренуара). К сожалению, во французском кинематографе нет гигантов, подобных Дрейеру, Росселлини, Куросаве, Бергману…

Связано это, на мой взгляд, не с отсутствием талантов, но с определенной культурной традицией, истоки и смысл которой я попытаюсь определить. По мнению Годара, итальянское национальное кино выросло из картины Роберто Росселлини «Рим, открытый город» — фильма о только что завершившейся войне. Американское кино вышло из «Рождения нации» Гриффита — фильма, посвященного острейшим историческим проблемам США. Сам же Годар снял фильм не об истории Франции, а об истории кино — «История (и) кино» (Histoire (s) du cinéma) — и претендует он на нечто большее, чем просто рефлексия о кинематографе. Жак Рансьер прочитал этот фильм как обвинение кинематографа в преступной легкомысленности:
Когда кино не на экране, а в действительности столкнулось с тем, что предсказало в своих вымыслах — в сценах охоты на кроликов и пляски смерти в «Правилах игры» или в антисемитских погромах и концентрационных лагерях «Великого диктатора», — оно оказалось неспособным осмыслить произошедшее3.
3 The Saint and the Heiress: A propos of Godard’s Histoire (s) du cinéma // Discourse. 2002. Vol. 24. N 1. P. 115.
По меткому наблюдению Рансьера, на кинематограф была перенесена часть ответственности за историю. Можно подумать, что история творится в кинозалах. Когда-то я задал Годару вопрос: «Является ли для вас национальная история в какой-то мере историей национального кино?» Он ответил: «Да, думаю, что так оно и есть — в истории кино есть соответствие общему историческому движению, некоему моменту в истории Запада»4. Связано это прежде всего с тем, что киноизображение, с его точки зрения, обладает особой способностью выражать правду. Существо истории проступает не в самой истории, но в фильмах. Поэтому история европейской цивилизации должна принимать форму истории кино.
4 Кинематограф сопротивления. С. 43.
Это странное замещение действительности кинематографом неслучайно. В беседе с Юсефом Ишагпуром о фильме «История (и) кино» Годар заявил: «Мы родились в музее; это, в конце концов, наша и только наша родина»5. Речь идет о Французской синематеке, где будущие критики и режиссеры «новой волны» сформировались не только как кинематографисты, но и как личности. Ишагпур сравнивает опыт «новой волны» с творческой биографией Орсона Уэллса. На это Годар отвечает: «До того как Уэллс пришел в кино, он успел поработать и на радио, и в театре. Мы же родились в музее. А до этого читали журналы, которые привели нас в музей…»6
5 Godard J.-L., Ishagpour Y. Archéologie du cinéma et mémoire du siècle. Dialogue. Tours: Farrago, 2002. P. 56.
6 Ibid.
Все представления поколения «новой волны» о жизни и о кино были сформированы синефилией. Кино было способом освоения жизни — чего, конечно, нельзя сказать о великих режиссерах. Трюффо, который в течение нескольких лет был ассистентом Росселлини, в своих воспоминаниях о великом итальянце опасливо писал:
Я знаю, сколь опасно об этом говорить, но я полагаю, что на самом деле Росселлини не очень любил кино — во всяком случае, не больше, чем другие искусства. Искусству он предпочитает жизнь, человека. Он никогда не откроет роман, его больше интересуют история и социология7.
7 Truffaut F. The Films of my Life. New York: Simon and Schuster, 1978. P. 276.
По всей видимости, догадка такого рода кажется Трюффо радикальной, что свидетельствует о внутреннем конформизме, характерном для многих режиссеров «новой волны» и в том числе для самого Трюффо. Ги Дебор, считавший конформистом даже такого «революционного», ангажированного режиссера, как Годар, однажды заметил:
Кино Годара сегодня провозглашает только псевдосвободу и содержит только псевдокритику буржуазных ценностей — двух нераздельных проявлений насквозь фальшивого современного искусства8.
Годар для Дебора — вторичный режиссер9, интерпретатор готовых культурных продуктов, погрязший в конформизме и не способный на подлинный революционный радикализм. Но эта вторичность (разумеется, тенденциозно преувеличенная Дебором) возникла не на пустом месте, а имеет глубокие культурные корни.
Синефилия, рассматривающая мир сквозь призму кинематографа, играет здесь принципиальную роль. Для ведущих критиков и режиссеров 50–60-х кинематограф был окном, через которое они видели реальный мир. При этом послевоенные синефилы не слишком жаловали французское кино: они отдавали свое предпочтение американскому кинематографу. После войны на Францию обрушился мощный поток недоступных во время оккупации
американских фильмов во главе с «Гражданином Кейном». В 1954 году Трюффо опубликовал в Cahiers du cinéma — журнале, ставшем рупором нового поколения, нашумевшую статью «Об одной тенденции во французском кино», в которой провозгласил отечественный кинематограф искусством сценаристов. С его точки зрения, люди вроде Оранша, Боста или Превера были виновны в том, что придали французской «традиции качества» неустранимую вторичность: «Когда они заканчивают сценарий, фильм уже готов. Постановщик, по их мнению, — это человек, который подбирает картинки; и это, увы, правда!»10 Так в критической среде возникло разделение кинематографистов на техников, то есть тех, кто просто иллюстрирует сценарии, и авторов — тех, кто перерабатывает сценарии, чтобы выразить через них свое видение мира11. Cahiers du cinéma в середине 50-х провозгласил так называемую авторскую политику, то есть политику защиты авторов и разоблачения техников. К авторам были причислены многие американские режиссеры — такие, как Хичкок, Хоукс, Уэллс и др. Из европейского кинематографа в авторы был рекрутирован Росселлини, сыгравший для развития нового кино существенную, хотя и необычную роль.
8 Debord G. The Role of Godard // Situationist International. Anthology. Ed. by K. Knabb. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2006. P. 228.
9 «Его показная культура ничем не отличается от культуры его зрителя, который пролистал те же страницы тех же купленных в аптеке дешевых книжонок» (Ibid.). «Годар даже не был современным художником, то есть человеком, способным хотя бы на минимальную личную оригинальность» (Debord G. The Practice of Theory: Cinema and Revolution // Guy Debord and the Situationist International. Texts and Documents / Ed. by T. McDonough. Cambride, Mass.: The MIT Press, 2002. P. 187).
10 Truffaut F. A Certain Tendency of the French Cinema // The French New Wave. Critical Landmarks. / Ed. by G. Vincendeau, P. Graham. London: Palgrave-Macmillan, 2009. P. 15.
11 Чтобы избежать упрощающей оппозиции «сценарное — стилевое», понадобится оригинальность и проницательность Базена. В программной статье о реализме новой итальянской киношколы Базен замечал, что конструкция рассказа (то есть сценарий) может стать стилем, как структура нарратива стала стилем у таких писателей, как Фолкнер, Мальро, Хемингуэй и Дос Пассос (Bazin A. Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Cerf, 1975. P. 274).
Идея автора, на мой взгляд, выражает глубокое беспокойство поколения синефилов вторичностью видения. Когда говорят об авторе, обычно подразумевают индивидуальный стиль. Но главное, с моей точки зрения, — это преодоление вторичности, характерной для фильмов сценаристов. Автор — это художник, способный к непосредственному контакту с реальностью, к преодолению опосредованности взгляда. Это важно понимать, потому что пафос авторского кино был в значительной степени
пафосом высшего реализма, который достигается не миметическим копированием реальности, но высокой индивидуальностью видения.
Между тем с самого начала было очевидно, что большинство любимых синефилами американских режиссеров работало в рамках голливудской системы, которая ограничивала свободу и вряд ли располагала к реализму. Любопытно и то, что представители «новой волны» высоко ценили жанровый кинематограф — в частности, вестерни фильм нуар, — где свобода была ограничена жанровыми условностями. Проблема жанра в сознании критиков 50-х занимала важное место. В 1957 году ведущие критики Cahiers обсуждали плачевное положение французского кино, и Жак Риветт заметил, что французское кино стало очень похоже на британское. Андре Базен спросил: «В чем, по-твоему, причина посредственности британского кино?» Риветт ответил: «Британское кино — это жанровое кино, но оно не имеет подлинных корней. <…> Это фальшивые, то есть подражательные жанры. Большинство британских фильмов — это подражания американским подражаниям. С другой стороны, это не авторское кино, так как этим авторам нечего сказать». Андре Базен, самый авторитетный и самый старший из всей плеяды, подхватил мысль Риветта: «Слабость европейской киноиндустрии заключается в том, что она не способна опереться на жанры». Риветт с энтузиазмом продолжил: «Раз так, то в европейском кино вообще невозможно сделать что-либо стоящее — не только во французском, но и в английском, и в итальянском…»12
12 Bazin A., Doniol-Valcroze J., Kast P., Leenhardt R., Rivette J., Rohmer E. Six Characters in Search of auteurs: A Discussion about the French Cinema // Cahiers du cinéma, the 1950s. Ed. by J. Hillier. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. P. 32–33.
В чем же основополагающая роль жанра для авторского кино, если учесть, что жанр — это в конечном счете набор условностей и клише? Из множества откликов, опубликованных на страницах Cahiers, становится понятно, что настоящий автор может реализовать себя только в противодействии системе. Оригинальность режиссерского решения укоренена в отклонении от принятой нормы. Неслучайно Базен сравнил вестерн с изысканным вином, оценить которое способен только ценитель:
Оценка вестерна в чем-то сродни дегустации вин. Только знаток вина может провести различие между крепостью и букетом, содержанием алкоголя и насыщенностью и оценить баланс этих компонентов, в то время как непосвященный может лишь высказать грубую догадку о том, бургундское это или бордо13.
13 Bazin A. Beauty of a Western // Ibid. P. 165.
Путь к действительности для поколения синефилов лежит через борьбу с языковыми и литературными условностями.
Иными словами, оригинальность возможна только при условии тонкого знания условностей. Подражательный вестерн плох тем, что поверхностное знание законов жанра не позволяет режиссеру создать на его основе сугубо оригинальное произведение. Таким образом, существует два вида вторичности: вторичность подражания и вторичность авторской оригинальности.
Тезис о происхождении оригинальности из жанра иллюстрирует статья Риветта «Заметки о революции» (1955). Революция, о которой идет речь, — это приход в кинематограф нового поколения режиссеров-авторов, успешно работавших в том числе и в жанре вестерна: Николаса Рея, Ричарда Брукса, Энтони Манна, Роберта Олдрича, Самюэля Фуллера и др. Насилие в этих вестернах становится чертой поэтики: оно проявляется не только во взрывах и стрельбе, но и в эллиптической форме повествования, в отказе от классических конвенций и традиционного монтажа. Авторская оригинальность этих режиссеров связана с определенным типом режиссуры (Риветт употребляет излюбленный критиками Cahiers термин «mise-en-scène», который можно перевести как «раскадровка», «постановка», «мизансцена» и т. п.14), вызывающей сильное эмоциональное потрясение, чувство сопричастности происходящему на экране:
Отказ от традиционной риторики сценария и постановки — этой вялой безличной формулы, навязанной администраторами кинокомпаний и ставшей символом подчинения, — имеет значение манифеста. Насилие — внешний знак разрыва. <…> Как только условности превратятся в пыль, установится состояние благодати, пустоты…15
14 Mise-en-scène — распределение элементов сцены, эпизода, фильма; установление связей между фрагментами в новой целостности. Это установление связей может осуществляться и через монтаж, и через взаимодействие персонажей и пространства внутри непрерывного плана. Так как в русском языке нет точного эквивалента этому термину, я сохраняю в тексте его оригинальное написание.
15 Rivette J. Notes on a Revolution // Cahiers du cinéma, the 1950s. P. 95.
Таким образом, задача разрушения условностей закрепляется за mise-en-scène. Индивидуальный почерк режиссера способен взорвать риторическую систему изнутри и обеспечить выход за пределы риторики — в некое доязыковое, невинное состояние. Риветт пишет о возвращении в 1915 год, в эпоху Гриффита; о необходимости достижения спонтанных эмоций, «наивности» в искусстве. Путь к действительности для поколения синефилов лежит через борьбу с языковыми и литературными условностями, но не через непосредственный контакт с реальностью.
Радикальное эссе Риветта, однако, не было настолько новаторским, как могло показаться в 1955 году. Оно почти дословно повторяет некоторые тезисы опубликованной в 1941 году книги Жана Полана «Цветы Тарба, или Террор в литературе». Эта книга стала заметным явлением и поводом для первого значительного выступления в философской критике Мориса Бланшо. О Полане и Бланшо следует сказать несколько слов, так как их рассуждения помогают лучше понять контекст возникновения нового французского кино. В своей книге Полан описывал литературу как арену борьбы двух тенденций. По его мнению, до эпохи Французской революции в литературе господствовала риторика — языковые и жанровые нормы. После Революции начинается эпоха террора — бунта против безличных риторических норм. Террор пытается разрушить условности, установить прямой контакт с реальностью и противопоставить безликим клише авторскую индивидуальность. Террор прямо ассоциируется с романтизмом, но косвенно связан и с политическим террором Французской революции. Террор провозглашает господство мысли над словом. Книга получила свое название от притчи, рассказанной Поланом: якобы однажды в городе Тарб был введен запрет вносить цветы в местный общественный сад. Этим цветам Полан уподобил общие места орнаментальной риторики.

С точки зрения Полана, попытка преодолеть языковые оковы, сдерживающие индивидуальную мысль, не освобождает литератора от власти языка. Даже суперавторская литература модернизма, вместо того чтобы преодолеть язык, вывела его на авансцену. Речь идет о простой подмене одной риторики другой: от языка нельзя уйти потому, что он является основой литературы. В итоге Полан предлагает неожиданное решение: возвращение к клише классической литературы. Клише — на то и клише, что позволяет забыть о языке и войти в область чистой мысли:
Классическое произведение вольно предлагать нам события, страсти, вещи как таковые. Романтическое произведение всегда предлагает их нам с примесью мнений и приемов (d’opinions et de moyens): одним словом, литературы. Ритор платит дань языку единожды и окончательно — и свободно может писать о любви, страхе,
рабстве или свободе. Террорист же не может не примешивать к страху, любви и свободе постоянную заботу о языке и средствах выражения16.
В конце книги Полан воображает у входа в сад Тарба иную надпись: «Запрещено входить в общественный сад без цветов в руках»17. Нетрудно заметить, что Риветт воспроизводит ход мысли Полана. Помочь вырваться за пределы жанровых клише может только насилие, разрыв (тот же террор). Террор связан с утверждением индивидуального авторства и фигурой автора. Разрушение клише возможно с помощью иной риторики — риторики эллиптического монтажа и разрушения монотонной линеарности. Новая террористическая риторика получает название mise-en-scène. Но общий диагноз Полана остается тут совершенно справедливым, хотя и парадоксальным: только радикально усилив роль формы, можно преодолеть формальный, технический подход к режиссуре. Так, «наивное» гриффитовское видение, о котором мечтал Риветт, оказалось достижимо в рамках классической риторики (и действительно, гриффитовское кино сегодня кажется нам подчеркнуто риторическим). Не действует ли та же логика, например, в фильмах Годара? Выбор политической тематики напрямую связан с усилением роли риторических и литературных элементов в его фильмах.
Попытка вырваться за пределы киноязыка превращает политическую критику Годара в кинематографическую ауторефлексию, а его фильмы — в фильмы о киноязыке.
16 Paulhan J. Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres. Paris: Gallimard, 1990. P. 159–160.
17 Ibid. P. 166.
Литературное произведение все время выбирает между террором и риторикой.
То, что Полан называл риторикой, критики Cahiers называли mise-en-scène. Но прежде чем перейти к рассмотрению этого понятия, следует сказать несколько слов об отклике Бланшо на книгу Полана18. Бланшо опубликовал три газетных статьи о «Цветах Тарба…» и потом объединил их в текст «Как возможна литература?». Бланшо радикализировал идеи Полана и высказал предположение о том, что в «Цветах Тарба…» литература описана как вид искусства, существующий в режиме постоянной
борьбы с самим собой:
Писатель порождает искусство только в безнадежной и слепой борьбе против искусства же; когда автор думает изъять произведение из контекста общего вульгарного языка, он забывает о том, что произведение может родиться только в результате вульгаризации того невинного языка, который он себе вообразил19.
18 Подробнее о реакции Бланшо на книгу Полана см.: Syrotinski М. How is Literature Possible? // A New History of French Literature / Ed. By D. Hollier. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. P. 953–958.
19 Blanchot M. How is Literature Possible? // The Blanchot Reader / Ed. by M. Holland. Oxford: Blackwell, 1995. P. 58.
Проблема литературы — это проблема языка, лингвистического опосредования. Писатель, который хочет обойти расставленные языком ловушки, обрекает себя на молчание. Литературное произведение все время выбирает между террором и риторикой. Именно это двусмысленное положение становится основным содержанием литературы, не способной найти адекватное выражение мысли. Литература не столько что-то выражает, сколько свидетельствует о невозможности что-либо выразить. В самом сердце литературы — радикальная пустота невыразимости, двусмысленной неопределенности.
Кинематографист-автор пишет своей камерой так же, как писатель — авторучкой.
Французская критика с удивительным упорством пыталась приписать кинематографу черты литературы. Рожденное в музее поколение синефилов оторвано от реальности и склонно преувеличивать опосредованность кинематографа. Это особенно заметно на фоне острого недовольства сценарным кинематографом. Но сценарий вызывает неприязнь Трюффо именно потому, что сам фильм — уже своего рода письмо. Поэтому сценарий для него — это чрезмерный, излишний слой письма. Тождество кино и литературы впервые провозглашается в авторитетном манифесте Александра Астрюка «Рождение нового авангарда: камера-стило», опубликованном в журнале L’Écran français в 1948 году.
Астрюк ведет читателя в направлении, противоположном ходу мыслей Полана и Бланшо. Он утверждает, что кино входит в новый период своего развития и постепенно «превращается в речь»:
Это кино постепенно порвет с тиранией видимого, с изображением ради изображения, с непосредственными и конкретными требованиями повествования, и станет средством письма такого же гибкого и тонкого, как письменная речь20.
Кино обретет возможность передавать абстрактную мысль. Оппозиция «сценарист — режиссер» становится бессмысленной:
Режиссура (la mise-en-scène) перестает быть способом иллюстрирования или представления сцены и становится подлинным актом письма. Кинематографист-автор пишет своей камерой так же, как писатель — авторучкой21.
20 Astruc A. Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo // Barrot O. L’Écran français 1943–1953. Histoire d’un journal d’une époque. Paris: Les Editeurs françaisréunis, 1979. P. 237.
21 Ibid. P. 239.
Самое удивительное в этом манифесте — преодоление тирании изображения. Если террористы Полана стремились в литературе найти эквивалент изображению с его непосредственностью, убедительностью и простотой, то Астрюк считает изображение негативным элементом кинематографа, элементом, который следует трансцендировать с помощью письма.
Сартр не принимает в «Гражданине Кейне» субъективную энергию раскадровки и монтажа.
Но каким образом mise-en-scène может стать письмом? Астрюк не дает на этот счет внятного ответа:
Всякий фильм, поскольку он является фильмом в движении (un film en mouvement), то есть развивающимся во времени, — это теорема. Фильм является проводником непререкаемой логики, разворачивающейся от начала до конца (le lieu de passage d’une logique implacable, qui va d’un bout à l’autre d’elle-même), или, лучше сказать, диалектики. Эта идея, эти смыслы, которые немое кино стремилось породить с помощью символической ассоциации, как мы поняли, существуют в самом изображении, в развитии фильма, в каждом жесте персонажей, в каждом их слове, в движениях камеры, связывающих предметы между собой и персонажей с предметами. Всякая мысль, всякое чувство формирует отношение между человеком и другим человеком или предметами, составляющими его мир22.
22 Astruc A. Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo. P. 34.
С точки зрения Астрюка, mise-en-scène укоренена в феноменальном мире, который дается нам в совокупности связей и смыслов. В таком контексте mise-en-scène лишается своего технического аспекта. Десятилетие спустя, в статье «Что такое mise-en-scène?», Астрюк подчеркнет именно феноменальный, а не технический аспект режиссуры:
Нет нужды снимать кучу фильмов, чтобы понять, что не существует такой вещи, как mise-en-scène; что актеры могут прекрасно без нее обойтись; что оператор знает, где поставить камеру, чтобы получить необходимый кадр; что кадры сами согласуются между собой, когда необходимо передать единство действия и т. д.23
23 Astruc A. What is mise-en-scène? // Cahiers du cinéma, the 1950s. P. 266.
Режиссура, по мнению Астрюка, к тому времени приобретшего изрядный режиссерский опыт, не определяется исключительно навязываемой миру волей режиссера:
Mise-en-scène основывается на тайной уверенности в том, что тебе доступен некий аспект правды прежде всего о человеке, а затем уже неотделимой от нее правды о произведении искусства24.
Также Астрюк пишет о том, что mise-en-scène создает дистанцию, необходимое напряжение между миром и зрителем.
Эта критика mise-en-scène у Астрюка отчасти может объясняться влиянием Сартра. Астрюк был вхож в дом Сартра и вместе с другими критиками, основавшими Cahiers du cinéma, — Андре Базеном и Роже Леенхардтом —публиковался на страницах сартровского журнала Temps modernes. Сартр же, как замечает Доминик Шато, видел в кино «своего рода антифеноменологическое искусство, в большей степени выявлявшее феноменальность обычных вещей, нежели их подчиненность некоему навязанному позднее порядку»25. В знаменитой статье, посвященной «Гражданину Кейну», Сартр упрекал Уэллса в излишне агрессивном навязывании миру неких авторитарных структур. По мнению Сартра, в фильме Уэллса все было до такой степени аналитически выверено, что он утратил дыхание жизни:
24 Ibid. P. 268. Еще до статьи о mise-en-scène, в рецензии на «Стромболи» Росселлини Астрюк утверждал, что mise-en-scène — не более чем выдумка: «Все остальное — фотография, раскадровка — принадлежит mise-en-scène, то есть организации вымысла (l’organisation du mensonge)» (Astruc A. Au-dessus du volcan // Cahiers du cinéma. 1951. N 1. Avr. P. 30).
25 Chateau D. Sartre et le cinéma. Biarritz: Séguier, 2005. P. 14.
Часто возникает ощущение, что предпочтение отдается изображению (l’image «se préfère»); слишком много претенциозных и прихотливых кадров, бравирующих своей искусностью. Похоже на роман, чей стиль все время лезет вперед и заслоняет собой персонажей26.
Сартр не принимает в «Гражданине Кейне» субъективную энергию раскадровки и монтажа. Астрюк точно так же предостерегает против чрезмерной субъективизации mise-en-scène и ее понимания как чистой режиссерской воли к переупорядочиванию мира.
Установившееся в Cahiers понимание mise-en-scène соответствовало той волюнтаристской модели, которая казалась Астрюку сомнительной. Из этого понимания возникла и авторская политика журнала. Титаническая фигура автора воплощала режиссерскую волю к переустройству мира, право на воспроизведение индивидуальной стилистической манеры вне зависимости от материала.
26 Sartre J.-P. Quand Hollywood veut faire penser // Barrot O. L’Écran français 1943–1953. Histoire d’un journal d’une époque. Paris: Les Editeurs français réunis, 1979. P. 42. Нетрудно заметить, до какой степени это замечание о стиле согласуется с идеями Полана. Роже Леенхардт откликнулся на статью Сартра своей рецензией на «Кейна», в которой защищал Уэллса от обвинений в манерности и «художественном письме»: «Стиль Уэллса не имеет ничего общего с вялым «художественным письмом»» (Leenhardt R. Citizen Kane // Leenhardt R. Chroniques de cinéma. Paris: Cahiers du cinéma, Editions de l’Etoile, 1986. P. 118).
Трюффо сравнивает фильм Любича со швейцарским сыром, каждая дырка которого «подмигивает».
Пятидесятые годы во многом интересны тем, что именно в это время предлагаются разные варианты понимания mise-en-scène, фундаментальные для общей концепции кино. Один из таких вариантов был предложен Франсуа Трюффо, и, по моему мнению, именно он стал господствующим. Точка зрения Трюффо хорошо понятна, например, из статьи, посвященной Любичу. Трюффо сравнивает Любича с Хичкоком и пытается оспорить их заявления о том, что они просто рассказывают истории. Похожие истории рассказывает и Саша Гитри — но его нельзя отнести к виртуозам mise-en-scène. Секрет мастерства Любича и Хичкока заключается в том, что они никогда не показывают интригу прямо. Если герои остаются в спальне, то Любич перемещает камеру в гостиную, позволяя зрителю лишь воображать происходящее. Трюффо пишет: «Правда заключается в том, что они не хотят рассказать историю, и даже ищут способы не рассказать ее»27. Mise-en-scène, по мнению Трюффо, — это способ создать структуру, состоящую из зияний, которые зритель волен заполнять с помощью своего воображения. Трюффо сравнивает фильм Любича со швейцарским сыром, каждая дырка которого «подмигивает». Именно такой тип письма и позволяет Любичу и Хичкоку делать фильмы, пользующиеся зрительским успехом:
Хотя выражение «mise-en-scène» слишком часто употребляется неправильно, оно может быть сведено в данном случае к игре, которую разыгрывают три стороны. И что же это за стороны? Любич, фильм, зритель28.
27 Truffaut F. Lubitsch was a Prince // Truffaut F. The Films in my Life. New York: Simon and Schuster, 1978. P. 51.
28 Ibid.
Тот факт, что в основе mise-en-scène лежит зияние, пустота, отсылает нас к Бланшо, который видел пустоту в основе феномена литературы. Литература должна отказаться от языка, фильм — от изображения. Понятно, что такое понимание кино противоположно точке зрения Сартра, который ценил в киноизображении феноменальность вещей, а не феноменологичность. Феноменология гуссерлевского извода исходит из того, что всякое явление дается нам вместе с его невидимым аспектом (дом с задней стеной, которую мы не видим, куб с невидимой нам плоскостью и т. п.). Морис Мерло-Понти в статье «Кино и новая психология» (1945) изложил феноменологический взгляд на кино, привлекая теорию монтажа и даже эксперименты Кулешова. Фильм, по мнению Мерло-Понти, позволяет нам воспринимать вещи так, как это описывает феноменология; однако, замечает он, «кинематографическая драма, если можно так выразиться, подогнана лучше, чем драмы реальной жизни: она протекает в более точном мире, чем реальный мир»29. Трюффо так же отмечает точность разметки зияний у Любича и Хичкока.
29 Merleau-Ponty M. Sense and Non-Sense. Evanston: Northwestern University Press, 1964. P. 58.
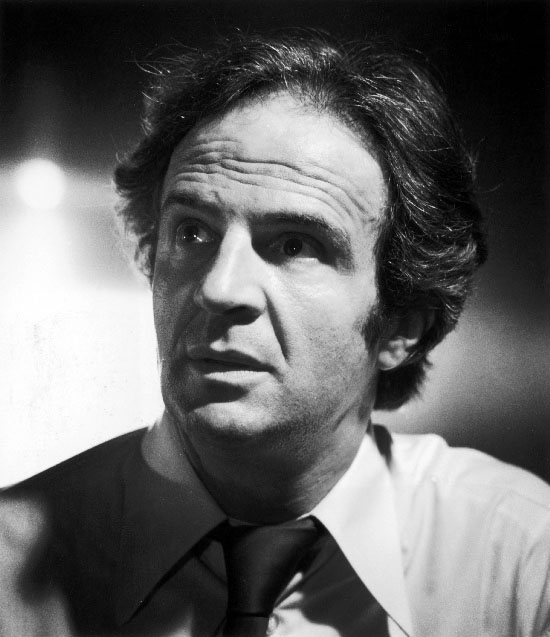
Понимание письма как тонкой, точной аранжировки отсутствия чрезвычайно существенно для влиятельной интеллектуальной традиции во Франции. Тут можно вспомнить Деррида, который описывал письмо в категориях отсутствия, а потому мог противопоставить его метафизике присутствия, характерной для логоцентризма. Лакан определил через отсутствие и структуру символического, и структуру субъекта. Но, пожалуй, наиболее важна отсылка к зиянию, открываемому кастрацией у Фрейда и того же Лакана. Напомню, что Фрейд считал фетишизм результатом травматического открытия — отсутствия фаллоса у матери; травмы, которую фетишист вытесняет с помощью фетишей — например женских туфель. Теорию фетишизма приложил к кинематографу Кристиан Метц в известном эссе «Воображаемое означающее». Метц специально отметил, что отношение зрителя к кино похоже на отношение фетишиста к фетишу.
С одной стороны, зритель знает, что происходящее на экране — чистая фикция; с другой стороны, он верит в реальность происходящего. Эта вера, по мнению Метца, похожа на вытеснение кастрации у Фрейда, замещение зияния фетишем. Зритель вытесняет, отрицает ощущение отсутствия. И хотя Метц полагает, что фетишизм не чужд любому кинозрителю, он выделяет особую категорию фетишистов:
Фетишист в кино — это тот, кто восхищается тем, на что способна машина, восхищается театром теней как таковым. Для того чтобы в полной мере насладиться кино, он должен каждое мгновение думать об эффекте присутствия, вызываемом фильмом, и одновременно о том отсутствии, на которое опирается эта сила. Он должен каждое мгновение сравнивать результат и средства его достижения (и, соответственно, обращать внимание на технику), так как его удовольствие обусловливается их несовпадением. Понятно, что такая позиция в большей степени характерна для «знатока», синефила…30
30 Metz C. Le signifiant imaginaire // Communications. 1975. N 23. P. 52.
Именно синефил воспринимает фильм не феноменально, но феноменологически. Мир для него всегда вопиет о своем отсутствии, вытесняемом виртуозной техникой mise-en-scène, которой так восхищаются Трюффо и его последователи. Неслучайно, конечно, в пантеоне мастеров особое место отводится им Хичкоку — виртуозу режиссуры, но не слишком содержательному художнику (то же самое относится, конечно, и к Любичу).
Китон, считает Ромер, наиболее точно выражает мир, описанный Кафкой.
Модель Трюффо, модель феноменологического кинописьма как фетишистской техники стала, на мой взгляд, господствующей во Франции. Я не стану утверждать, что кинематограф не знает отсутствия и не инкорпорирует зияние в свою структуру. Я хочу лишь обратить внимание на особую акцентировку фигуры отсутствия у Трюффо. Между тем возможны и иные подходы к mise-en-scène. Я остановлюсь лишь на двух альтернативах, предложенных Эриком Ромером и Андре Базеном31.
Теория Базена в общих чертах известна, Ромер-теоретик почти не знаком читателю. Ромер между тем в первой же своей чрезвычайно любопытной теоретической работе «Кино, искусство пространства» (1948), опубликованной еще в Revue du cinéma, оценил Хичкока довольно сдержанно:
Поиск стилизации — творчество Хичкока чрезвычайно богато образцовыми сценами, но блеск его стиля не всегда свидетельствует о глубоком осмыслении связи между содержанием и способом его выражения32.
Стилизация (а именно стилизатором считал Ромер Хичкока) не позволяет установить связь между формой и содержанием. Почему? Да именно потому, что стилизатор — это стопроцентный автор, то есть человек, который навязывает любому материалу свой тип письма или mise-en-scène. Сущность киноискусства, по мнению Ромера, не в навязывании материалу своего стиля, а в сложной комбинации раскадровки и монтажа (Годар явно находился под влиянием Ромера, когда писал статью «Монтаж, моя прекрасная забота»33). Раскадровка высекает из пространства мира некий прямоугольник, монтаж позволяет соединять его с другими прямоугольниками. Таким образом, фильм — это странная конструкция, которая может быть определена «узостью видимой поверхности и протяженностью места действия»34. Но эта конструкция не нейтральна по отношению к материалу — прежде всего, к поведению актера. На сцене актер может позволить себе свободный жест:
Жест актера в кино постепенно стал не только более скупым, но и более «собранным», деформированным, если можно так сказать, близостью рамки экрана35.
Жест приобретает выразительность в пространстве кадра. Комизм Бастера Китона, например, по мнению Ромера, основывается на расположении и динамике тела в пространстве (в отличие от Чаплина). Как пишет Ромер, Китон «выражает неотвязность состояния неловкости и одиночества, не имеющего эквивалента в кино»36. Китон, считает Ромер, наиболее точно выражает мир, описанный Кафкой. Среди режиссеров Ромер особо отмечает Эйзенштейна, Мурнау и Уэллса, в котором видит не претенциозного стилизатора, каким счел его Сартр, но непревзойденного мастера организации пространств, трансформирующих человеческий материал.
Мысли, высказанные Ромером в 1948 году, продолжали волновать его всю жизнь. В 1972 году уже признанный мастер кино неожиданно защитил диссертацию «Организация пространства в «Фаусте» Мурнау», где попытался показать, каким образом организация пространственных планов влияет на внутрикадровое содержание. Ромер так характеризует тот тип кинематографа, который его интересует:
Присутствие в таком кино более выразительно,
чем столь часто восхваляемое Чаплиным, Любичем или Эйзенштейном отсутствие. Многочисленные эллипсы в таком кино — способ как можно скорее перейти к существенному, проскочить через пустое время и аморфное пространство. На первый взгляд эта насыщенность производит впечатление удушья. Она могла показаться примитивной и архаической в те времена, когда кино еще
только вступало на путь изощренных поисков языка. Но Мурнау не без некоторого высокомерия оставляет писателям утонченные радости литоты и искусства называния. Ему нечего сказать: он показывает37.
31 За годы работы критиком Годар не создал интересных теоретических работ и в целом стоял на довольно эклектических и романтических позициях. Он высказывался против излишней абстракции в режиссуре, за выражение человеческих чувств и реализм, понимаемый весьма традиционно. Он также неоднократно выступал против влияния философии на критику. Его наиболее содержательное эстетическое высказывание середины 50-х — статья «Монтаж, моя прекрасная забота» — попытка доказать, что mise-en-scène и монтаж не исключают, а, скорее, предполагают друг друга (Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Paris: Cahiers du cinéma — Editions de l’Etoile, 1985. P. 92–94).
32 Rohmer E. Le Goût de la beauté. Paris: Cahiers du cinéma, Editions de l’Etoile, 1984. P. 35. Такая оценка, впрочем, не помешала Ромеру вместе с Шабролем издать в 1957 году книгу о Хичкоке.
33 Годар-теоретик близок Ромеру, Годар-практик гораздо ближе идеям Трюффо — эстетике отсутствия, монтажа и стилистического императива.
34 Rohmer E. Le Goût de la beauté. P. 27.
35 Ibid. P. 28. Возможно, Ромер испытал влияние Анри Фосийона, показавшего в своих классических трудах, каким образом архитектурные формы «деформируют» изображение тел, которые в них вписаны. Его теория формы (матрицы, наложенной на материал и его деформирующей) была изложена в книге «Жизнь форм» (Focillon H. Vie des formes suivi de Éloge de la main. Paris: PUF, 1934).
36 Ibid. P. 30.
37 Rohmer E. L’organisation de l’espace dans le «Faust» de Murnau. Paris: Union Général d’Editions, 1977. P. 102–103.
Всякий фильм — это результат встречи индивида и системы, которая порождает кино.
Ромер не скрывает своих теоретико-художественных амбиций. Mise-en-scène, основанная на отсутствии, — это литература, проникающая в кино, литература, связанная с поиском языка или, вернее, — письма. Mise-en-scène отсутствия можно сравнить с литотой — риторической фигурой ослабления, смягчения, уменьшения. Этот жест напоминает о риторике «Цветов Тарба»; всякий же риторический ход для Ромера — это фигура отсутствия, уменьшения. Удушье (un manque d’air), которое Ромер связывает с пространственной эстетикой, здесь тоже возникает неслучайно, явно отсылая к «Тошноте» Сартра, в которой насыщенность феноменального мира, этого хаоса существования, вызывает тошноту и удушье. Эстетика Ромера основана на усилении чувства присутствия, и усиление это не связано с фетишизмом, маскирующим отсутствие техникой. Герой сартровской «Тошноты» так пишет об удушающем мире предметов:
Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупо, более абстрактно, более сдержанно. <…> Я понял, что середины между небытием и разомлевшей избыточностью нет. Если ты существуешь, ты должен существовать до этой черты, до цвели, до вздутия, до непристойности. Есть другой мир — в нем сохраняют свои чистые строгие линии круги и мелодии38.
38 Сартр Ж.-П. Тошнота. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 184–185.
Mise-en-scène в понимании Трюффо — это мир строгих чистых линий, очерчивающих зияние. У Ромера же эти чистые линии (обрез рамки кадра) ведут к насыщенности и полноте. Однако Ромер не стремится к аморфности удушающего присутствия Сартра: у него строгие пространственные конструкты, линии, рамки кадра накладываются на аморфность существования, порождая совершенно особый, кинематографический тип присутствия.
«Какие такие «чувства» может «выражать» Ингрид Бергман?»
История, которую я пытаюсь рассказать здесь читателю, конечно, была бы неполной без упоминания о Базене — руководителе Cahiers du cinéma и, несомненно, наиболее глубоком мыслителе группы Cahiers. Хорошо известно, что Базен до конца не принял авторской политики младшего поколения критиков журнала. В статье «Об авторской политике» Базен пишет, что хотя он и не разделяет взглядов Трюффо или Ромера на авторство, он «до некоторой степени верит в понятие автора». Главное же его расхождение с молодыми критиками Cahiers заключается в его убеждении, что «произведение трансцендирует режиссера»39. Это первенство произведения по отношению к автору связано не только с тем, что кино — массовое и индустриальное искусство; оно связано с тем, что всякий фильм — это результат встречи индивида и системы, которая порождает кино. Однако удачное соединение требований системы и художественных потребностей индивида — скорее исключение, чем правило.
39 Bazin A. On the politique des auteurs // Cahiers du cinéma, the 1950s. P. 249.
Базен был склонен соглашаться с молодыми, что основа кино заключена в mise-en-scène, но при этом ссылался на Сартра, который считал, что всякая художественная «техника отсылает к метафизике»40. Казалось бы, расхождение между Базеном и группой Трюффо было незначительным. Но это не так. Утверждать, что произведение может трансцендировать режиссера означает утверждать, что кинематографическая удача коренится не в письме, в mise-en-scène, а во встрече письма и материала. Ромер так описывает суть этой встречи: «Кино уничтожает дистанцию между реальностью и ее репрезентацией»41. Он же совершенно справедливо замечает, что «коперниковская революция», произведенная Базеном, заключалась в объективизации понимания кино42.
В чем-то подходы Базена и Ромера совпадают, но
Базен, пожалуй, идет дальше. Одним из наиболее глубоких выражений его теории является рецензия на фильм Росселлини «Европа 51». Базен признает, что mise-en-scène у Росселлини принципиальна для общего метафизического значения фильма. Она поражает своей точностью и строгостью, сближающей фильм с произведениями классического искусства. Эта строгость служит одной цели:
…заставить реальность обнаружить себя через видимость, отбросив категории актерской игры и драматической экспрессии. Росселлини не заставляет своих актеров играть, он не заставляет их выражать то или иное чувство; он требует от них, чтобы они определенным образом существовали перед камерой. В такой mise-en-scène местоположение персонажей, их походка, их движения в декорациях и их жесты имеют гораздо большее значение, чем чувства, которые они показывают, или слова, которые они произносят. К тому же какие такие «чувства» может «выражать» Ингрид Бергман? Ее драма лежит за пределами всякой психологической номенклатуры. <…> Такая mise-en-scène требует изощренной стилизации. Такой фильм во всем противоположен реалистическому, «списанному с жизни»: это скупое, лаконичное, даже аскетическое письмо. В этот момент неореализм проходит полный круг и возвращается к классической абстракции, к обобщению43.
40 Bazin A. Comment peut-on être Hitchcocko-Hawksien? // Critique et Cinéphilie. Petite anthologie des Cahiers du cinéma. Paris: Cahiers du cinéma, 2001. Vol. VI. P. 15. Ромер указывал на принципиальную роль Сартра в эволюции Базена: «Влияние Сартра, говорил он нам, определило его карьеру: заслуживает восхищения та независимость, которой смог добиться ученик по отношению к своему учителю» (Rohmer E. La «Somme» d’André Bazin // Rohmer E. Le Goût de la beauté. P. 106).
41 Ibid. P. 107.
42 Ibid. P. 106.
43 Bazin A. Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Cerf, 1975. P. 360–361.
Это антириторическое понимание письма противоположно пониманию письма у Полана. Mise-en-scène направлена на отсечение психологического, экспрессивного элемента, который затрудняет явление реальности как чистой видимости. Ромер прав, в своем эссе называя Базе на феноменологом. Реальность здесь — не что иное, как чистая видимость вещей, видимость, очищенная от всего орнаментально-риторического, психологического, наносного. Без mise-en-scène Росселлини не смог бы приблизиться к реальности как видимости. Сама же mise-enscène выступает в роли феноменологической редукции. Ведь только в результате редукции, согласно Гуссерлю, в феноменах отчетливо проступает общее. Становится понятно, почему Базен оспаривает воспроизводимость
авторского стиля. Механическое применение одних и тех же приемов mise-en-scène может из инструмента редукции и очищения видимого превратиться в способ орнаментализации. Более того, чем технически изощреннее режиссер, тем, возможно, он менее способен к чистой интуиции. Ведь фетишизм техники на то и фетишизм, чтобы заслонять собой не только пустоту, но и реальность.
Уже в 1951 году Базен констатирует, что неореализм исчерпал себя и не имеет будущего.
Характерно, что с первых же номеров Cahiers Базен неожиданно стал утверждать, что только непричастные к кино люди способны до конца понять его. Впервые это еретическое суждение он высказал о «Дневнике сельского священника» (Journal d’un curé de campagne, 1950) Брессона, который был не понят кинематографистами, но оценен такими литераторами, как Франсуа Мориак и Альбер Беген44. В следующем номере Базен опубликовал хвалебную рецензию на кинематографический дебют известного итальянского писателя Курцио Малапарте «Запрещенный Христос». Базен поражен этой картиной: «Может быть, желательно ничего не знать о кино, чтобы сделать хороший фильм»45. И добавляет:
Чтобы научиться писать, требуется время, в то время как научиться делать фильм можно мгновенно — достаточно сходить в кино. Для всего остального существуют ассистенты, операторы, звукорежиссеры и электрики46.
Я думаю, что декларации подобного рода были отчасти направлены против синефилов.
Но самое интересное в рецензии не это. Уже в 1951 году Базен констатирует, что неореализм исчерпал себя и не имеет будущего. Эволюцию итальянского кино Базен описывает как движение от бытового реализма к театрально-оперной условности, которую он обнаруживает уже у Висконти эпохи «Земля дрожит» (1948). Одним из участников этого движения кажется ему и Малапарте. Театральность «Запрещенного Христа» представляется Базену стилизацией, сравнимой с абстрагирующей стилизацией Росселлини, хотя он и пишет, что эстетика фильма «тяготеет к ораторству, риторике»47. Значит риторика — эти «цветы Тарба» — тоже может служить очищению реальности! Театральность способна редуцировать все то, что кажется нам естественным сопровождением реальности (вроде психологизма), и таким образом очистить видимость. Главным достижением Малапарте Базен считает найденный им способ остранения идеологически нагруженных, пропагандистских речей в фильме, которые обычно невыносимы в искусстве:
В «Запрещенном Христе» много говорят, но говорят так, как поют в Опере, диалог не претендует на драматический или психологический реализм; это идеологическое bel canto…48
44 Bazin A. Le journal d’un curé de campagne et la stylistique de Robert Bresson // Cahiers du cinéma. 1951. N 3. Juin. P. 7.
45 Bazin A. Néo-Réalisme, opéra et propagande // Cahiers du cinéma. 1951. N 4. Juin. P. 46. Позиция Базена не совпадает с точкой зрения Риветта, который считал, что идеальный способ достижения наивности — преодоление риторичности. Базен же выступает за изначально наивный взгляд режиссера.
46 Ibid. P. 47.
47 Ibid. P. 49.
48 Ibid. P. 50.
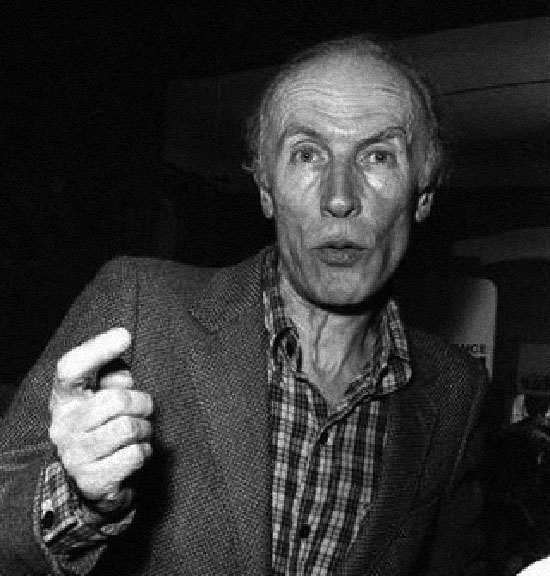
Стилизация такого рода более точно выражает суть политической пропаганды, чем психологизированная, «нормальная», реалистическая речь. Таким образом, кинематографическая mise-en-scène вовсе не обязана быть «кинематографической» — хичкоковской, хоуксовской, любичевской, — но может принять облик чего-то тотально антикинематографического — оперного, театрального, литературного. Именно такой представляется Базену mise-en-scène Де Сика в «Золоте Неаполя». Здесь mise-en-scène построена на актерской игре, пронизанной театральностью:
Театральность и реализм перемешались до такой степени, что их эстетическая взвесь создает иллюзию нового образования, которое будто бы и является неореализмом. Однако взвесь эта неустойчива, и мы видим, как в «Золоте Неаполя» на дно режиссуры (mise-en-scène) выпадает осадок театральности49.
49 Базен А. Жестокий Неаполь («Золото Неаполя») // Киноведческие записки. 1997. № 35. C. 221.
Каким образом театральность позволяет проникнуть вглубь реальности, каким образом она может стать основанием mise-en-scène? Я думаю, что ответ на этот вопрос можно найти в некоторых положениях феноменологии Мерло-Понти. В его «Феноменологии восприятия» неоднократно встречается термин mise en forme (в русском переводе — «придание формы»). Mise en forme — ближайший философский родственник кинематографической mise-en-scène. В обоих случаях речь идет о придании чему-то неоформленному, неопределенному видимости. Видимое у Мерло-Понти предполагает mise en forme.
Экзистенциальная мимика скрыта слоем кодифицированных значений.
В 1960 году критик Ферейдун Овейда напечатал в Cahiers статью-манифест, в которой утверждал, что весь смысл авторской политики и кинокритики заключается исключительно в утверждении приоритета mise-en-scène. При этом он призывал не смешивать mise-en-scène со стилем и письмом. Точность письма в кино имеет не риторический, но структурный характер. Смысл же анализа mise-en-scène заключается, по мнению Овейда, в том, чтобы «сделать видимым (faire apparaître) смысл фильма через его технику»50. Техника, в свою очередь, структуирует смысл. Но что значит сделать видимым, придать видимость?
50 Hoveyda F. Les Tâches du soleil // Critique et Cinéphilie. Petite anthologie des Cahiers du cinéma. Paris: Cahiers du cinéma, 2001. P. 47.
Согласно Мерло-Понти, под слоем речи и кодифицированных жестов следует различать еще один значащий слой:
Больные могут читать текст с верной интонацией и в то же время его не понимать. Они воспринимают первый слой значения слов и речи — в первую очередь эмоциональную окраску, — но скорее улавливают и копируют некую экзистенциальную мимику, нежели нечто концептуальное. Под концептуальным значением слов нам открывается их экзистенциальное значение, которое не просто передается словами, но живет в них и от них неотделимо51.
Экзистенциальное значение укоренено в стиле, в интонации, в том, что философ называет экзистенциальной мимикой. Но эта экзистенциальная мимика скрыта слоем кодифицированных значений. Чтобы она стала видимой, она должна пройти стадию mise en forme. Мерло-Понти объясняет, каким образом смысл становится понятным через физический жест:
Двум субъектам недостаточно иметь одни и те же органы и нервную систему, чтобы проявлять эмоции одинаково. Важен прежде всего тот способ, каким субъект придает форму своему телу и миру через эмоцию52.
51 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента-Наука, 1999. С. 238–239.
52 Там же. С. 246.
Но это придание формы полностью совпадает с задачей mise-en-scène, как ее понимает Базен. Mise-en-scène для него — не авторский стиль, а способ придания формы тому, что скрыто за слоем «очевидных» значений. Это стиль тела. И стиль этот не аналитический, а феноменологический. Базен писал о неореализме и, в частности, о Росселлини:
Неореализм по природе своей отказывается от анализа (политического, нравственного, психологического, логического, социального или какого угодно) персонажей и их действий. Он рассматривает действительность как единое целое — неделимое, но, разумеется, доступное пониманию (comme un bloc, non certes incomprehensible mais indisociable)53.
53 Базен А. В защиту Росселлини // Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972. С. 341.
Эта неделимость реальности, конечно, крайне далека от аналитической mise-en-scène Трюффо. Она воплощена в теле, а не в монтаже. Именно поэтому для Базена mise-en-scène всегда в конце концов сводится к организации актерского поведения. При этом стиль этого поведения может быть театральным или документальным, но он должен создавать чистую видимость, которая и есть реальность.

Такое понимание mise-en-scène противоположно синефилическому, противостоит всем принципам авторской политики и лежит в плоскости, чуждой поэтике Хичкока или Хоукса. Принципиальным для такого понимания является творчество Росселлини и Брессона — на мой взгляд, единственного французского режиссера послевоенного
времени, сопоставимого по масштабу с Росселлини.
Трюффо в воспоминаниях о Росселлини высказывает ряд небезынтересных наблюдений:
Когда Росселлини пишет сценарий, его совершенно не заботит развитие истории. Достаточно иметь точку отсчета. У любого человека — вне зависимости от того, какой он национальности и какого вероисповедания, каков род его деятельности и устремления, — есть некие потребности и желания, и есть ограниченное количество возможностей их удовлетворить. Всякое расхождение между потребностями, желаниями и возможностями создаст конфликт. <…> Для Росселлини главное — вновь открыть
человека, которого скрывает от нас множество противоречивых фантазий. Он показывает его с помощью простого документального метода, а затем сталкивает его с самой обычной проблемой — такой проблемой, которую легче всего показать54.
54 Truffaut F. The Films of my Life. P. 275.
Этот «простой», «примитивный» метод совершенно недоступен пониманию Трюффо, который пытается найти в фильмах великого итальянца очертания изысканной mise-en-scène Любича или Хичкока. Но при всей своей синефилической изощренности, он абсолютно слеп к той форме mise-en-scène, которую в состоянии прочитать и увидеть Базен.
Различие между Трюффо и Базеном можно определить и иначе. Мне представляется, что Трюффо мыслит кинематограф в категориях репрезентации, а Базен — нет. Репрезентацию я здесь понимаю в бергсоновском смысле:
Из бесформенного пространства выкраивают (on découpera) движущиеся фигуры; или (что то же) вычитывают некие количественные отношения и функции, которые эволюционируют, совершенствуя свое содержание: тогда представление, с включенными в него останками материи, свободно развернется в непротяженном Сознании55.
55 Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 440.
Синефилия придала французскому кино те изящество и изысканность, которые мы в нем любим.
В репрезентации выдумываются (on imaginera) некие иные связи и отношения, данные нам изначально в материи. Эта переаранжировка отношений, как считал Бергсон, абсолютно искусственна. Характерно, что Бергсон использует глагол découper. От этого глагола образован кинематографический термин découpage — раскадровка принципиальная часть операции монтажа. Для определения видимости, которую производит материя, Бергсон использовал термин image — изображение. Изображение материально и не является результатом искусственной перестройки реальности. Базен мыслит кино в категориях image, а не découpage; в категориях изображения, а не репрезентации56.
56 Философ-феноменолог Леонард Лоулор утверждает, что можно мыслить онтологию кино на основании бергсоновского понятия image (Lawlor L. The Challenge of Bergsonism: Phenomenology, Ontology, Ethics. London: Continuum, 2003. P. 8).
Трюффо трудно понять Росселлини. В конце своего очерка о нем он задает вопрос, на который не находит ответа:
Не ошибаются ли те из нас, кто любит и восхищается Росселлини, когда полагают, что он вправе снимать войны, раздирающие семьи, проказы св. Франциска и обезьян в Бенгалии точно так же, как он снимает уличный бой, —
то есть как новости, как репортаж? 57
57 Truffaut F. The Films of my Life. P. 277.
Я думаю, что неспособность понять режиссера, которого человек всегда интересовал больше, чем кино, — плод синефилической традиции, зародившейся в музее. Синефилия позволила французской кинокритике стать лучшей в мире и придала французскому кино те изящество и изысканность, которые мы в нем любим. Но эти цветы Тарба обошлись французскому кино чрезвычайно дорого, наложив на значительную часть французской кинопродукции печать вторичности и псевдоинтеллектуализма. Иногда эти тенденции порождали претенциозное барокко (как, например, в фильмах Маргерит Дюрас или Алена Роб-Грийе), но чаще просто подрывали радикальность эстетического и даже политического дискурса риторичностью кинописьма (Годар).
Читатель, если он добрался до конца этой длинной статьи, может спросить: какой смысл извлекать из нафталина эти старые эстетические споры? Отвечу. Я искренне полагаю, что проблема «цветов Тарба» актуальна и сегодня; она чрезвычайно остро стоит перед современными режиссерами так называемых артхаусных фильмов. К тому же в России появилось первое поколение синефилов, если и не родившихся, то выросших в музее (Звягинцев, Попогребский, Хлебников и др.). Синефилия — несомненно, продукт определенного рода фетишизма, обусловленного природой кино. В этом прав Метц. Как прав и Базен, высказавший догадку о том, что глубоко понять кино может только профан.










