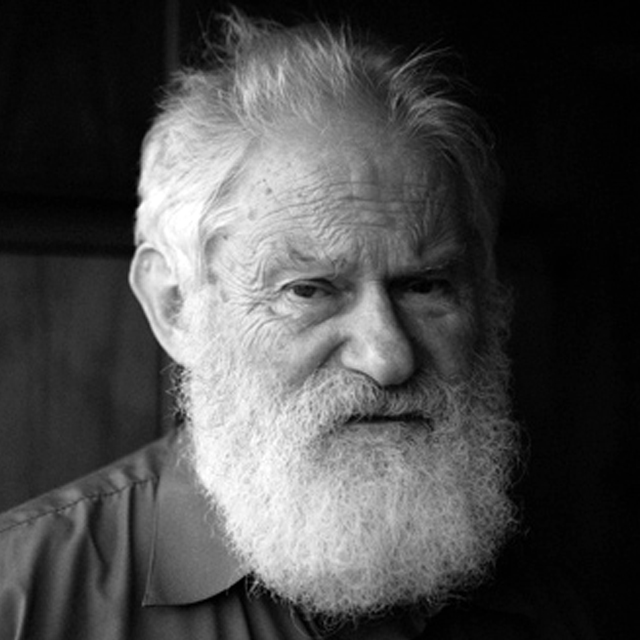Смутный порыв Гёте
Светлой памяти моего друга А.В. Михайлова
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.
СЕАНС — 47/48
Невозможно представить себе ни жизнь Гёте, ни его творчество без этих двух строк. О каких бы его стихах или прозе ни шла речь, эти строки существенны для их понимания. Потому и приходится вникать в смысл этого двустишия, не ограничиваясь переводом, каким бы поэтическим или, напротив, каким бы буквальным этот перевод ни был. По возможности точный перевод этих строк таков: «Хороший человек в своем смутном порыве сознает, пожалуй, [где] верный путь». Сразу же следует обратить внимание на два обстоятельства. Прежде всего, во второй строке употреблен специфически немецкий идиоматический оборот, и правильнее было бы говорить не о самом верном пути, а, скорее, о сознании верного пути, которое есть у хорошего человека. Но даже если такое сознание есть, из этого еще не следует, что человек идет по верному пути. Во-вторых, наречие wohl, означающее вообще вероятность, может означать также благо, и тогда обе строки приобретают иное, более определенное значение: хороший человек в своем смутном порыве хорошо сознает верный путь. У Гёте оба эти значения не исключают друг друга: сознание верного пути вероятно, и как раз потому оно благо. Если бы верный путь был неизбежен, он был бы навязан человеку извне и уже потому не был бы верным, а значит, не был бы и благим, так что сочетание вероятности и блага не устанавливается рационалистически, а угадывается. Это не силлогизм, а чаянье, на котором и основываются целостность или благотворность смутного порыва.

Эти две строки взяты из «Пролога на небесах» к трагедии «Фауст». Эта трагедия была для Гёте фрагментом его великой исповеди. Фауст сопутствует Гёте на протяжении всей жизни. Он работает над ним более шестидесяти лет. Гёте родился в 1749 году, к работе над «Фаустом» приступил в 1770-м, а завершил вторую часть трагедии в июле 1831 года, за восемь месяцев до смерти, последовавшей 22 марта 1832 года. Примечательно, что завершив вторую часть «Фауста», Гёте запечатывает рукопись в особый конверт с тем, чтобы она была опубликована только после его смерти. Таким образом, то, что читателю представлялось впоследствии чередою замысловатых философских абстракций и аллегорий, было для самого Гёте глубоко интимным, личным документом, сочетающим исповедь и завещание.
Эти две строки из «Пролога на небесах» произносит не кто иной, как Сам Бог, и, следовательно, они являются для Гёте как бы символом веры, так что нельзя не задаться вопросом, кто же этот «хороший человек». Само это словосочетание восходит к седой древности, засвидетельствовано волшебной сказкой. В сказке хороший или добрый человек, пусть и дурак, хорош потому, что укоренен в традиции, привержен сокровенной сути вещей. Чертами такого дурака наделен Парсифаль, таинственный рыцарь Грааля. Так или иначе объявить хорошим или добрым человеком Фауста, да еще вложить подобное заявление в уста Самого Бога, было невероятной поэтической дерзостью.
Поэзия Гёте всегда противостояла философским абстракциям.
В глазах целых поколений Фауст оставался разительным примером богоотступника и чернокнижника, вступившего в преступный союз с дьяволом. В отличие от других колдунов и ведьм Фауст, правда, не был сожжен, но легенда настаивала на том, что он угодил в ад, причем по собственной воле. Фауста отличало от вульгарного колдуна также стремление «мыслить стихии», но и это стремление трудно отождествить с благородной любознательностью, так как для Фауста мыслить значило обладать, не исключая и эротического смысла этого глагола. Главная черта Фауста, описанного в народной книге, — необузданность желаний как интеллектуальных, так и чувственных. К пагубнейшим грехам Фауста легенда причисляет брак с прекрасной Еленой, из-за которой разыгралась Троянская война. Разумеется, брак с красавицей, умершей два тысячелетия назад, не может быть заключен без помощи дьявола. Такой же дьявольщиной представлялся религиозному простонародью и бюргерству Ренессанс — эпоха, когда отдельные аристократы духа попытались оживить наследие языческой древности.
Так называемое просветительство, пришедшее на смену Ренессансу, тем более дистанцировалось от Фауста как от порождения и носителя простонародных суеверий. Просветителям претила также необузданность, безудержность его желаний, которым они определенно предпочли бы «умеренность и аккуратность» на метафизическом уровне. Хороший человек для просветителя — это человек разумный, вернее, рассудочный или рассудительный. Такой человек безусловно сознает, где верный путь, без всякого смутного порыва и проблематичного «пожалуй», которые разве что сбивают с пути. Против подобного самодовольного рационализма восстал молодой Гёте, примкнувший к литературному направлению Sturm und Drang («Буря и натиск»). Хотя Drang в данном случае принято переводить как «натиск», это также «порыв», и наверняка «смутный». Во власти такого бурного порыва Гёте написал в 1773 году драму «Гёц фон Берлихинген с железной рукой», рыцарский роман в драматической форме, как охарактеризовал его Гейне. Тот же смутный порыв заставляет Гёте приступить годом позже к работе над романом «Страдания молодого Вертера», герой которого кончает жизнь самоубийством. Впоследствии Гёте скажет, что если бы не самоубийство Вертера, он кончил бы самоубийством сам. Этим грозил ему порыв, не только смутный, но и темный (по-немецки это одно и то же слово — dunkel); так что опасения просветителей-рационалистов были небезосновательны.

Интересно, что великий современник Гёте Иммануил Кант вместе со своей критикой чистого разума выдвинул и острейшие аргументы против смутного порыва, причем одно вытекало из другого. В области этики и человеческого поведения Кант разработал неопровержимую с философской точки зрения концепцию категорического императива, согласно которому следует поступать так, как ты желал бы, чтобы поступали все в аналогичном случае, то есть, чтобы из каждого поступка или действия выводился нравственный закон. Разумеется, всякие смутные порывы при этом «категорически» исключаются. Гёте по-своему ценил Канта, рекомендуя каждому прочесть, правда, не «Критику чистого разума», а «Критику способности суждения», но поэзия Гёте всегда противостояла философским абстракциям и в значительной степени опровергала их, причем это опровержение затрагивало не только Канта, но и Сократа. В основе философии, согласно Сократу, лежал принцип «познай самого себя», и именно этот принцип оказался неприемлемым для Гёте. Поэт высказал мысль, высоко оцененную и подхваченную Буниным: «Я сам себя не знаю и избави меня, Боже, знать себя!»1
1 Бунин И.А. Собр. соч. М., 1988. Т. 5. С. 176.
При этом Гёте никогда не утверждал, что мир непознаваем, напротив, он серьезно, профессионально занимался естественными науками и порою склонен был считать себя скорее ученым, чем поэтом. Немало времени он посвятил опровержению Ньютона, и современники, как правило, воспринимали это как чудачество стареющего гения. XIX век был, в общем, настроен скептически по отношению к научным трудам Гёте, а в XX веке вдруг наступил перелом. Оказывается, Гёте преодолел общепринятое в науке XVII–XIX веков противопоставление внешнего мира как единственного источника истины внутреннему миру человека, который якобы вторичен и не порождает ничего, кроме заблуждений, если не является заблуждением сам. Гёте едва ли не первый установил, что когда человеческий глаз видит цвета, он видит, в сущности, себя, свои собственные возможности, а не просто реагирует на внешние раздражители, если в этой связи вообще можно говорить о внешнем и внутреннем. Сам Гёте в «Учении о цвете» пишет: «Цвета, которые мы различаем в телах, отнюдь не являются чем-то совершенно чуждым глазу, который как бы обречен испытывать подобное ощущение; нет, этот орган всегда расположен сам производить цвета и наслаждаться приятным ощущением, когда извне до него доносится нечто сообразное его природе; когда его определимость с известной стороны осмысленно определяется»2.
2 Здесь и далее перевод мой. — Примеч. В. М.

Гёте поколебал механическое противостояние субъекта и объекта, навязываемое нам рассудочным эмпиризмом. Он напомнил простую истину: нет субъекта, который не был бы объектом для другого субъекта, как нет объекта, который не был бы субъектом, по крайней мере для самого себя. Отсюда методологическое расхождение Гёте с философией, основывающейся на безусловном противопоставлении субъекта и объекта. Но Гёте не останавливается на этом. Он убеждается в том, что субъект и объект непрерывно взаимодействуют, меняясь местами, причем не только субъект является продолжением объекта, но и объект является продолжением субъекта. Не только человек находится в мире, но и весь мир обретается в человеке. Вот почему познание самого себя для Гёте проблематично и даже нежелательно, так как нет самого себя, отдельного от всего остального. Смутный порыв Гёте и есть взаимопроникновение субъекта и объекта, обретение самого себя в мире и одновременно мира в самом себе. Свой роман о единении любящих Гёте озаглавливает «Избирательное сродство». Этот химический термин — тоже синоним смутного порыва.
Гёте, быть может, единственный из мировых гениев позволил себе говорить о благоговении перед самим собой как о высшей форме религии.
В жизни Гёте был период, когда он считал себя скорее художником, чем поэтом. Кроме того, Гёте был государственным деятелем, и хотя принято иронизировать над крохотным Веймарским герцогством, где разворачивалась его деятельность, Освальд Шпенглер справедливо замечает: от этого она не становилась менее значительной, будучи достойной и гораздо большего государства. Впрочем, сам Гёте впоследствии сказал, что для живописи ему не хватало органа (мы теперь говорим «таланта»), для науки ему не хватало упорства, а для политики — гибкости. В своей книге «Человеческое, слишком человеческое» Фридрих Ницше посвятил особый раздел заблуждениям Гёте. К таким заблуждениям Ницше относит увлечение Гёте сначала живописью, а потом наукой, но в самих этих заблуждениях видит признак особого величия, не довольствующегося самим собой. Мы видели, что научные теории Гёте оказались более истинными, чем полагали его почитатели в прошлом веке, включая Ницше, а оптика Гёте, в конце концов, основывается на его занятиях живописью. Но и Ницше проявляет гениальную проницательность, когда говорит о заблуждениях Гёте, ибо заблуждение — еще один синоним смутного порыва. Обретать верный путь не вопреки, а благодаря заблуждению — очевидная черта гения, каким был Гёте.
Ницше улавливает в личности Гёте одну уникальную особенность. О Гёте можно сказать, что он гениальный поэт или гениальный мыслитель. И то и другое будет верно, но в этих словосочетаниях важно не существительное, а прилагательное «гениальный». Гёте был гениален во всем, чем бы он ни занимался. Если бы он ничего не писал, как Сократ или Пифагор, он остался бы великим человеком. Тот же Ницше называет лучшей немецкой книгой «Разговоры с Гёте», написанные, а вернее, записанные его секретарем Эккерманом. Ницше, быть может, сам не заметил, что тем самым поставил частные, устные высказывания Гёте выше его поэтических произведений. Действительно, в каком-нибудь случайном высказывании Гёте порою ничуть не меньше (если не больше) творческой силы, чем в его поэтических произведениях. Величие Гёте основывается не на том, что он написал; напротив, его писания, его сочинения служат лишь подтверждением его величия. Гёте, быть может, единственный из мировых гениев позволил себе в своем позднем романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера» говорить о благоговении перед самим собой как о высшей форме религии, имея, правда, в виду не себя лично, а каждого человека, которому подобает считать себя лучшим созданием Бога и природы, ибо только при таком самосознании человек достигает наивысшего, не впадая при этом в самомнение и себялюбие, низводящие его на уровень посредственности.

Величие Гёте — в его личности. Он просто позволил себе быть личностью, на что никто, кроме него, не решился, хотя сам Гёте ненавязчиво, но настоятельно призывал к этому каждого своим творчеством и своим примером. Хороший человек для Гёте — это личность, а у личности свой путь, и чужой путь не может быть верным для нее, так что не бывает пути, верного вообще, для всех. В этом Гёте решительно расходится с рационалистами, проповедующими или предписывающими всем один и тот же разумный путь. От такого пути предостерегает смутный порыв, который у Гёте не только не исключает сознания, но парадоксальным образом с ним сочетается. Двустишие из пролога к «Фаусту» — совершеннейшая формула личности, единство разумного и стихийного, сознательного и бессознательного в человеке.
В Новое время такое единство постоянно разрушалось или отрицалось. До Гёте просветители предпочитали не видеть в человеке ничего, кроме сознания, нарочито и принципиально игнорируя бессознательное. После Гёте культ бессознательного нарастал и усиливался вплоть до французских сюрреалистов, провозглашавших диктат или даже диктатуру подсознания. Зигмунд Фрейд, чуткий исследователь и аналитик подсознания, оставался по отношению к нему рационалистом, но пессимистически смотрел на перспективы разума, тщетно пытающегося совладать со смутным порывом. Гёте занимает особое положение в культуре Запада, сторонясь былых рационалистов и будущих иррационалистов (в его время ими были романтики, весьма уязвленные сарказмом великого старца). Гёте не принадлежит ни к тем, ни к другим. Его величественная одинокая фигура изолирована своей правотой. Быть солидарным с ним значит уподобиться ему, стать самим собой, а это под силу далеко не каждому. Вот почему на современного человека, привыкшего к партиям и литературным направлениям, веет от Гёте настораживающим холодом.
К Богу и к Фаусту Мефистофель относится, по существу, одинаково, провоцируя Того и другого.
Впрочем, этот холод способен обжигать и даже сжигать. Гёте называет этот соблазнительный ожог, переходящий в самосожжение, блаженным томлением. Стихотворение под таким названием обращено только к мудрым, ибо «чернь всегда глумится». Чернь состоит из рационалистов и иррационалистов, те и другие привержены общепринятому. «Мудрый» — еще один эпитет или даже синоним «хорошего человека». Поэт воспевает живое существо, жаждущее огненной смерти. Это живое существо — «ты», зачатый и зачинающий в прохладе любовных ночей; «ты», охваченный неведомым чувством при виде горящей свечи, влекущей тебя к высшему соитию, и жаждущий света; «ты», мотылек, сгораешь. Примечательно, что Гёте не сравнивает, а прямо называет «тебя» «мотыльком» (в мотыльке распознается древний мистериальный символ смерти и возрождения). Судьба мотылька дает поэту возможность сформулировать свою заповедь: Stirb und werde3! Без этого ты только мрачный гость на темной земле. Эпитет земли dunkel совпадает с эпитетом порыва — смутный. Существенно, что dunkel начинается с du («ты»). «Ты» как бы предполагает смутный порыв, сводящийся к этому же «ты» — du — dunkel. Одного темного или смутного мало для верного пути. Довольствуясь темным, темнеешь сам. Хороший человек («ты») в своем смутном порыве, включающем в себя «ты», находит верный путь через огненную смерть, которая придает «тебе» новую форму.
3 Умри и стань/превращайся!

При этом огненная смерть у Гёте, как ни странно, не является самопожертвованием, так как происходит она оттого, что себя «ты» приносишь в жертву себе же самому. В основе «Пролога на небесах» лежит ветхозаветная Книга Иова. Гёте откровенно цитирует библейскую Книгу, когда Бог называет Фауста, как Иова, Своим рабом. Сатана, или Мефистофель, испрашивает у Бога разрешения испытать Его раба, правда, в дальнейшем сатана испытывает Иова величайшими несчастьями, а Фауста Мефистофель испытывает пусть мнимым, но все-таки благополучием. Бросается в глаза одно обстоятельство. К Богу и к Фаусту Мефистофель относится, по существу, одинаково, провоцируя Того и другого. Рекомендуясь Фаусту, Мефистофель говорит, что он часть силы, которая всегда хочет зла и всегда творит добро. Можно предположить, что, хотя Мефистофель и обманывает Фауста, оказывается, что он говорит правду, — быть может, вопреки собственным намерениям. Комментаторы полагают, что имя Мефистофель составлено из двух древнееврейских слов mep-hiz (разрушитель, губитель) и tophel (лжец). Так что призвание Мефистофеля — обманывать, но в конце концов обманывает он… себя.
Расхождение Мефистофеля с Господом в «Прологе на небесах» заключается в том, что Господь верит в хорошего человека с его смутным порывом, а Мефистофель не верит и также не верит в то, что Фауст — хороший человек. Мефистофель — интеллектуальный вождь черни, которая «всегда глумится». Он одновременно иррационалист и рационалист, в чем проявляется дьявольское родство и даже единство двух направлений, одинаково противопоставляющих смутный порыв сознанию. Маргарита Сабашникова рассказывает в своих мемуарах, как трагедию «Фауст» ставил Рудольф Штейнер, великий оккультист, основоположник антропософии и при этом незаурядный исследователь Гёте. Штейнер сам изображал на репетициях Мефистофеля, и тот представал в его исполнении циничным декадентствующим денди, что блестяще характеризует и Мефистофеля, и самого Рудольфа Штейнера, оказавшего, кстати, подспудное, но тем более глубокое влияние на русский театр. Мефистофель шутя принимает условие, поставленное Фаустом:
Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn4.
4 Если я скажу мгновенью: // «Но все-таки продлись! ты так прекрасно!» — // Тогда ты можешь заковать меня в цепи, // Тогда я охотно погибну / пойду ко дну.

Вторую строку этого четверостишия часто переводят: «Остановись, мгновенье…», и такой перевод в принципе неверен, так как остановившееся мгновение не может быть прекрасным: время останавливается в аду. Зато мгновение, которому говоришь: «Продлись!», есть мгновение райского блаженства, ибо вечность — не что иное, как длящееся мгновение. Кто говорит мгновению: «Продлись!», тот в раю, а из рая в ад попасть невозможно. Заманивая Фауста в ловушку, Мефистофель не видит, что сам проиграл, приняв условие Фауста. Это условие поистине подсказано сочетанием смутного порыва и трезвого сознания, сочетанием, в которое Господь верит, а Мефистофель не верит. Мефистофелю, в сущности, предложено проводить Фауста в рай, он сдуру соглашается и, сам того не замечая, выполняет это условие. Правда, Фауст попадает в рай не по собственным заслугам, а потому, что в рай попадает Гретхен, покинутая Фаустом; ей, однако, без Фауста рай — не рай. Впрочем, наслаждаясь любовью Гретхен, Фауст и не думает сказать мгновению: «Продлись!» В этой любви сказывается роковая ущербность его натуры, оборотная сторона гётевского величия. Когда Гретхен спрашивает Фауста, верит ли он в Бога, Фауст отвечает, что в Него нельзя верить и нельзя не верить, нельзя Его назвать, так как «разве Бог не содержит в Себе тебя, меня и Самого Себя?» Так обнаруживается иллюзорность гётевского «ты», ибо нет разницы между мной, тобой и Богом. Гретхен справедливо упрекает Фауста в том, что в душе тот не христианин, ибо христианство — религия любви, то есть религия абсолютного «ты», ибо если «тебя» нет, кого же любить? Для Фауста и для самого Гёте «ты» — лишь продолжение «я», оскорбленного тем, что «ты» не исчезает в нем, как исчезает в Фаусте прекрасная язычница Елена, но не христианка Гретхен.
Вся грандиозная, монументальная трагедия сводится к двум словам: Du ewig.
С неподражаемой иронией обрисовывает Гёте старого слепого Фауста, готового сказать: «Продлись!» мгновению, когда по воле Мефистофеля лемуры копают ему могилу, а ему чудится, что это строят плотины, отвоевывая землю у моря и болот. (Едва ли кто-нибудь резче Гете осмеял утопические проекты.) И вдруг Фауст оказывается в раю, и трагедия завершается неожиданными словами: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan»5. Этим «нас», таким непривычным для него, Гёте окончательно отождествляет себя с Фаустом. Основываясь на этом отождествлении, Шпенглер назвал культуру Запада фаустовской. Хороший человек спасается потому, что он личность, а личность угодна Богу, потому что подобна Ему в смутном порыве, чающем, угадывающем, сознающем верный путь. Вечно-женственное потому влечет «нас», что weiblich заключает в себе ewig, и das Ewig-Weibliche означает, в сущности, вечно вечное, и вся грандиозная, монументальная трагедия сводится к двум словам: Du ewig (Ты вечно).
5 Вечно-женственное влечет нас туда [в рай].