Cher Simon
Дорогой Симон!
я давно не получаю твоих писем.
Эмилия.

Рисунок Хелены Клинцевич
Симон!
твой почтовый голубь принес письмо так быстро — если бы я не знала, что он из той редкой породы, что способен облететь за половину суток две половины земного шара, я бы не поверила, что ты так далеко, как пишешь. дорога к дому ни капли не изменилась с тех пор как мы с мадмуазель Туффе волочили тебя перепуганного с речки домой, а ты нарочно делал вид, что никак не придешь в сознание, забавляясь нашим нелепым видом. я бы рассердилась на тебя за тот случай, если бы не видела собственными глазами, как уморительно проступала сквозь слои своей пудры мадемуазель Туффе, оно того стоило. а дорога — что дороге до всего этого, если она в любой момент может обернуться аллеей — аллея совсем другое дело, это, я думаю, ты понимаешь. у дома разве что облупилась калитка, но так как теперь в этом доме я ищу себе
любое занятие, лишь бы занять руки делом, а рот молчанием, я решила покрасить ее — жду только, когда привезут краску. когда ты вернешься, она будет такой же зеленой. я говорю «когда ты вернешься», а внутри мурлычут голодные кошки, ведь ты столько раз писал, что возвращаешься, и столько раз одно письмо на моих коленях накрывало посланное ему вдогонку другое, с известиями о том, что тебя снова унесло ветром, удачей или обещанием женщине. ты пишешь — к Рождеству. к Рождеству — это так скоро. а бабушке я о тебе сейчас ничего не скажу, не проси меня. здесь есть вопрос, который занимает меня круглые сутки с тех пор, как я надорвала пакет со специями в то утро,
когда их купила, — для чего ты пошел на чужую войну, Симон?
Шарлотта
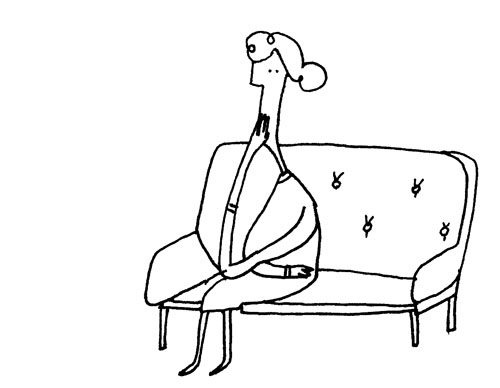
Рисунок Хелены Клинцевич
Симон,
ты замечал как тускнеют доспехи, если говорить о них часто? если утверждаешь, что ты воин — значит, пускай ты будешь воин, хотя и солдатом мне никогда не казался. вещи стали слишком серьезны, чтобы продолжать растрачивать нарядные фразы, и я расскажу тебе сегодня главное
родным
храни себя от страха и злости. опаздываю, жду твоих писем, без ленты в волосах побегу, так и быть,
Эвелина
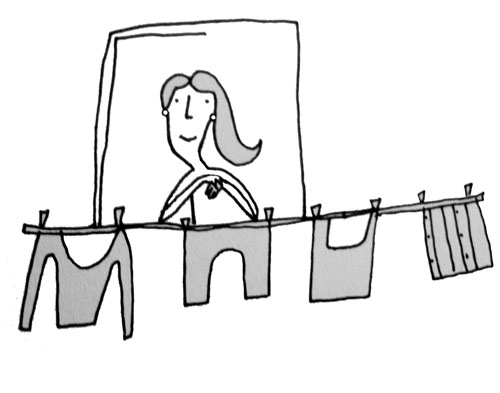
Рисунок Хелены Клинцевич
Cимон, на этой неделе у моих чашек пооббивались края, а татарская пиала с синими узорами дала трещину. я пью очень много зеленого чая и совсем разучилась пить черный, который больше похож на полоску железа, чем на напиток. сад засыпало снегом. на дорогах так скользко, что приходится притворяться японкой и, опустив глаза, соединив руки в черных шелковых рукавах зимнего платья, как в муфте, делать маленькие шаги, чтобы не оступиться. порой мне кажется, что из-за этих шагов и черного шелка мои волосы начинают темнеть, кожа — бледнеть и глаза — сужаться. ты пишешь, что не убивал, — я благодарю бога за твое везение. а чужим человеком ты всегда был мне равно так же, как самым близким, и это меня к тебе привязало дважды накрепко. поверь, что бы ты ни сделал, я всегда найду лазейку понять это. мадемуазель Туффе говорила, у меня быстрый и гибкий ум. она не была этим довольна, потому что предвидела, чем может все это обернуться, — и я действительно иногда теперь подрабатываю, сочиняя софистические самооправдания запутавшимся в себе девицам с Рю де Женер. лента в моих волосах стального цвета, а порой — коралловая, но с приходом зимы я ношу синие туфли и синие платья. а время свое я провожу сама с собой. в этом светском обществе постоянно
не изменяю вот уже несколько лет.
Камилла

Рисунок Хелены Клинцевич
дорогой Симон! погода шалит и зашкаливает. ты спрашиваешь, чем я занимаюсь. я всегда ценила в тебе то, что подобные вопросы ты задаешь исключительно редко, но именно тогда, когда мне вдруг очень хочется тебе на них ответить. я занимаюсь всем, что подвернется мне под руки, милый. я учусь. беру чемоданы книг навынос, наши посыльные сбились с ног, доставляя мне извещения о том, что я превысила лимит, но я ничего не могу с собой поделать. у меня началась эта странная болезнь романтических девиц: я вдруг стала уверена, что каждой книге должен соответствовать свой антураж, и если
месяца не писать тебе писем.
Кларисса

Рисунок Хелены Клинцевич
Симон, я давно пишу тебе
Без подписи
Читайте также
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
Перемещенные города, перевернутые смыслы
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана
-







