Банка света
«Елочка» — так называлось самиздатское издательство, возникшее в 1960-х годах в семье Виргилиюса Чепайтиса и Натальи Трауберг. Книжки этого издательства печатались на машинке под копирку тиражом не более 4 экземпляров. В «Елочке» были впервые опубликованы пьесы Эжена Ионеско, рассказы Хорхе Луиса Борхеса и эссе Г.К. Честертона в переводах Н. Трауберг, сочинения В. Чепайтиса и Н. Трауберг, первый сборник стихов Т. Венцловы на литовском языке. В 2000-е годы несколько книжек этого издательства, сохраненных друзьями семьи, вернулись к Наталье Леонидовне. И к 80-летию Н. Л. «Елочка» была возрождена. Так увидел свет самый тиражный выпуск этого издательства за все время его существования: откомментированный Натальей Трауберг и Марией Чепайтите сборник произведений 60-х годов под общим названием «Матвеевский садик» насчитывает 24 экземпляра, собственноручно подписанных автором.
Выход «Матвеевского садика» в ручном переплете вызвал у Н.Л. восторг. Надо сказать, что она всегда скептически относилась к записи собственных воспоминаний, и мемуаристику почитала «стыдным» занятием. Но «Елочка» распространялась среди «своих», тех, кто многое и так знал лично от Н.Л. Это не только успокаивало, но и вдохновляло — в «Елочке» была та независимость и скромность, которую она любила и всячески приветствовала в творчестве. С юбилея Н.Л. в июле 2008-го по январь 2009-го в «Елочке» вышло одиннадцать книжек: мемуары, сборники переводов, произведения близких друзей. Н.Л. придумывала очередную книжку, а ее дочь Мария подбирала иллюстрации, верстала, печатала на домашнем принтере и сшивала пружинкой.
«Сеанс» публикует фрагмент из книги «Иаков на Лукишках» («Елочка», М., 2008). Фото из семейного архива публикуются впервые.
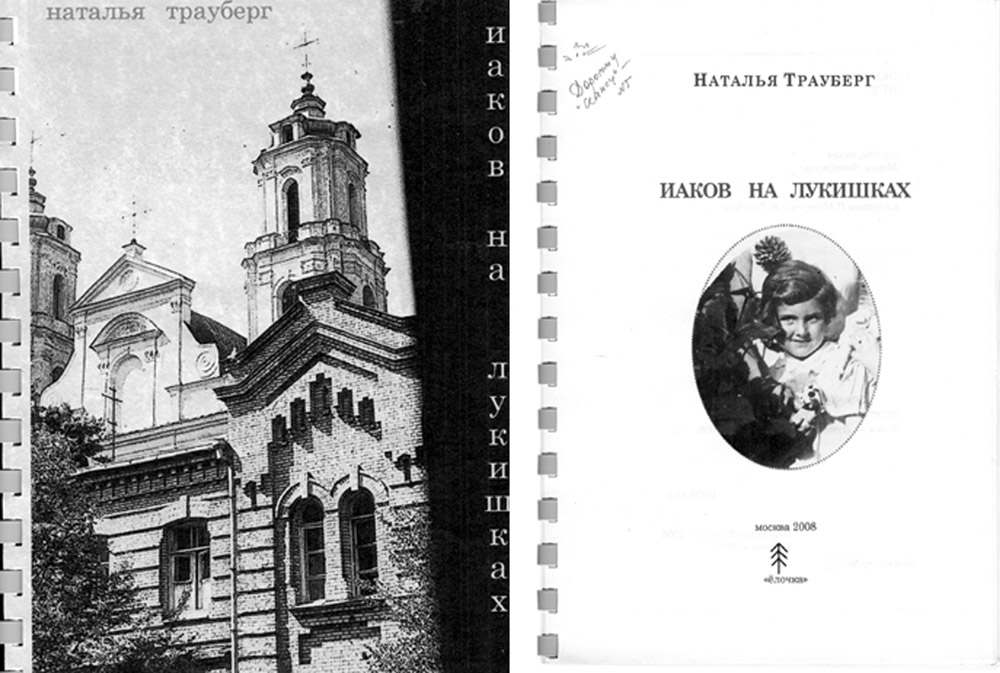
Перемычка
Отцы Доминик и Евгений крестили Елизавету. За стенами Сэнт-Энн начиналась осень 83-го, с корейским самолетом и многим другим. Ровно половину ее я была сумасшедшей. Помню, мне дали амитриптилин, но стало только хуже — «псих окаменевший». Вторую половину и часть зимы я тяжело болела и, несомненно, не работала. Когда же и как я перевела беседы о. Тагуэлла и написала заметки о самом начале жизни? Не знаю и не понимаю; но вот они, то есть заметки. Тех бесед сейчас нет (у меня) и, чтобы не лишать вас Тагуэлла, я даю главы из книги, которую он писал именно тогда, точно в том году.
Мои записки сохранились чудом, я их вроде даже выбросила. Слова «Банка света» были написаны маминой рукой на маленьких сшитых листках моих исключительно ранних полустихов. По ее словам, я назвала так лампочку. Тогда я любила электричество честертоновской любовью, то есть благодарно удивлялась. Но это — уже в записках. Ставлю их как статью, под номером (V), однако можно видеть в них приложение.
И все же самое важное — не это. Появилась книжка Павла Санаева; довольно давно вышла книжка Светланы Шенбрунн. И там и там описано с исключительной достоверностью, как нелепую девочку и просто хорошего мальчика ежесекундно изводили — то придирками, то заботой — их старшие родственницы. Заметьте, случай — не тот, когда дети и родители — просто в сваре. И мальчик (больше), и девочка (меньше) тихие; они, особенно — он, очень хотят сделать как лучше. Оба об этом написали; видимо, иначе не могли изжить боль, поверьте — невыносимую, одну из самых трудных.
Могла бы и я, но — не могу. До замужества я разгоняла народ своими жалобами на маму, но написать — и подумать не могла. Я рада за Светлану Шенбрунн и за Павла Санаева. Видимо, их боль была сильнее моей, поскольку не сработала простая проверка: когда исчезает ситуация, исчезает и счет. Поэтому так глупо говорить: «А ты ее прости!» Дело не в прощении, но в безвыходности, а с ней, конечно — и в боли, это ведь очень тяжело.
Слава Богу и Деве Марии, и Ее Матери Анне, в детстве (моем) мама была как фея. Позже с ней, как и с мамой С.Ш., и с бабушкой ПС, что-то случилось — это ведь все делается не от хорошей жизни, а от особого страдания, близкого к безумию. «Банка света» — маленькая дань тому раю, каким было мое детство и моя молодая мама по прозвищу Jacque.

Елизавете и Матвею
Банка света
Тайное предисловие
Мне казалось, что каждый может описать свое детство. Однако я этого не делала по нескольким причинам. Во-первых, это — слишком большая радость для земной жизни; во-вторых, очень близко психоз пишущих: «А вы читали у меня…?» и т.п. Главные причины были эти, и я не писала, пока не произошло маленькое бытовое чудо.
Если ты уже так велик, что пьешь кофе, ты знаешь, как, выпив кофе, можно вдруг умилиться выдумке вместо правды.
Мы сидим с тобой, Матвей, на полу, у моей тахты, почти в дверях, Я что-то тебе пела, и ты вдруг заснул. Было это, скажу для научности, в конце мая1. Так вот, ты заснул, ткнувшись в тахту своим коальим носом, а сам при этом был наполовину у меня на руках, хотя человек ты тяжелый и трехлетний. Тогда я помолилась о том, чтобы увидеть тебя изнутри, а не только снаружи.
1 Пожалуйста, вот и ответ: записки писала летом, когда еще не совсем свихнулась. Но Тагуэлла делала осенью. (2008)
Мне уже второй раз правят вполне точный перевод из Честертона: «Все хорошее больше изнутри, чем снаружи». Правила Лорие в «Диккенсе», правит Алевтина Н. в эссе. Им кажется, что фраза эта по-русски невозможна, и я сдаюсь, и выходит не помню что, не «просторней» и не, прости их Господи, «емче»! Но что-то другое, можешь посмотреть в «Человеке с золотым ключом». Однако для меня эта фраза нормальна и понятна. Вот ты, или сестра твоя Лиза. Возьмем извне. Вы оба очень красивы — но почему? Щеки у нее, коалий нос и синие глаза у тебя? Да и глаза, когда в них нет простодушного и хитрого выражения — стекляшки. Гораздо важнее не красота ваша, а — если брать извне — незнание зла. Но как оно непрочно! Ведь только зазевайся с вами, вы — морды и гады. Мало кто совсем без зазора соединил слова из Евангелия и сцену из Августина. Как всякий евангельский парадокс, на бумаге это не решается, решается в живом человеке. Вы — люди; и вот (умудрился все-таки сказать тот же Честертон), мы должны воспитывать вас, хотя вы лучше нас. Лучше; но как надо крутиться, чтобы очень быстро не стали еще хуже самих нас, взрослых! Какой у вас зверский, то есть человеческий эгоизм! О, Господи, даже представить нельзя, как ужасен невоспитанный ребенок! Нет, представить можно, они есть, больше того, они и раньше были, вот и Долли увидела, хотя уж ее дети могли быть и обработанными. И Пушкин пишет, что его Маша что-то такое нехорошее делает.
Но, несмотря на это, если эгоизм не занял вплотную весь ваш небольшой compositum, внутри у вас — точнее, изнутри — самое близкое к раю, что только бывает на земле. Слава Богу, я довольно хорошо помнила свой детский рай, точнее — вспоминала (тут посмотри «Человека с золотым ключом»!), потому что это всегда неожиданно и не совсем доступно памяти. Мне казалось, что описать будет легко, но только после ответа на молитву у тахты я увидела, что писать почти невозможно. Две другие причины показались мне пустыми; вот это — причина, тут покрутишься. Но теперь я вижу сразу и тебя трехлетнего изнутри, и себя.
Какие же перед нами встают проблемы?
1. Детский рай, который мерцал, как в стихах, пока я не увидела тебя изнутри, похож на «мистический опыт» — все же рай. Его принципиально нельзя описать; это все равно, что расплющивать полушария на квадрате. Останется загадка, и увидеть ее изнутри сможет только тот, кто вот так же помолится.
2. Проблема прекрасного вранья. Если ты уже так велик, что пьешь кофе, ты знаешь, как, выпив кофе, можно вдруг умилиться выдумке вместо правды. Не буду философствовать; но вот — статья о твоем двоюродном прадедушке Илье. О, милостивый, как не разнимается она на Dichtung и Vahrheit! То есть — разнимается, но стыдно разнимать. Вынесем за скобки вещи совсем аляповатые — скажем, Илюша был женат не раз (всего — 4,5 раза), а тут описан сентиментальный брак с балериной, и нет ни слова про то, как скоро они разошлись. Но разве так все было? Разве дедушка, твой прапрадед, был журналистом, а не мелким дельцом? А ведь немножко был и журналистом. Бог знает что! Можно говорить тебе поправку к каждой фразе — но как приятна легенда вообще, легенда про Траубергов в частности! Умен ли ты уже, Матюха, и потянешь ли небывалый, только Божьему миру свойственный зазор между грязью, унижениями, которых и Достоевский не описал, — и фотографиями из голландской газеты, где сказано «человек-легенда»? Знаешь ли ты сам, как можно молиться 30 лет впустую и понять, что молился кощунственно, а потом увидеть, что все вышло по молитве? Если знаешь, рада за тебя. Такой и будет легенда про твоего прадеда, уже не Илью, а Леонида Захаровича, и потому ни Dichtung, ни Vahrheit в отдельности здесь не получатся.
Особенно любила я картинку «Ряря в скипидаре».
3. Писать надо для тебя и Лизы, но неизбежно прочитает и кто-то еще2, может быть — раньше вас. Давай попросим, чтобы это никак не повлияло на мои к вам записки. Трудно, но можно (если помогут)3.
2 Зря человек располагает. Никто, слава Богу, не читал, хотя тебе уже 17, Лизе скоро 14, есть еще Полина, Петр, Иаков (2008: Значит, писала я это в 1997, и Сибиле еще не было).
3 Видимо, помогли. Теперь — каждому на десять лет больше. Мария нашла эти записи и просит не уничтожать (2008: Значит, 2007, или. скорее, 2006).

Первое письмо
Ряря в скипидаре. Оранжевый шар.
Носы. Два типа дам. Портниха.
Тимка и чулки. Комнаты.
Торгсин и кооператив. Мандарины.
Буквы «я». Одуванчики. Заячье. Лялька.
Когда я была такой, как ты, Елизавета, я жила у Захара Давыдовича и Эмилии Соломоновны на Коломенской, но ничего об этом не помню. А вот когда как ты, Матье, — немножко помню, и даже немало, потому что в 32 году мы переехали на Введенскую, и, значит, все, что связано с домом на Воскресенском, — до четырех лет.
Честертон справедливо сказал, что ваши носы дают нам представление о том юморе, который ждет нас в раю.
Там были очень важные вещи. Был шкаф, который я весь изрисовала какими-то существами в профиль. Особенно любила я картинку «Ряря в скипидаре». Она много значила. Я размышляла про имена и про типы бытия. Поскольку была прозрачно-зеленая «Ляля», должна была быть и тускло-пунцовая «Ряря»4. Скипидаром мазали меня во время простуды, и я это очень любила, так что подарила ей. Нарисовать такой важный вид действия, как «мазать», я не могла, и скипидар просто лился на нее / | \ примерно так. Но я понимала, что льется он до поры до времени, потому что позже я узнаю тайну, как изображается «мазать», и тем самым пойму колдовство этого действия — не лечебное колдовство, это меня не трогало, а, прости, онтологическое или, если хочешь, механическое. Это совпадало.
4 Была и «Риря», но она мне меньше нравилась. А «Рери» не было, хотя многих звали тогда Лелями, больше, чем Ленами.
Важными были и цвета. Рисовала я карандашами, и цвета их были светлые, но это я не очень замечала. Важнее были идеи цветов, особенно оранжевого. Мандарин был тусклее его и светлее, но круглый, и получалось то, что нужно — оранжевое и круглое. Таким же было солнце на картинках (в небе я разглядела его позже, лет в 5, и оно показалось мне дыркой, как дырочки в печной дверце). Оранжевые мячи были у негритят на моем ситцевом платье. Ярких красок — ясно-ярких, сплошных, но не густых — тогда было немного, больше на заграничных предметах, которые и сами входили в тот же раздел чистого, гладкого, круглого и радостного. Но значили только они — не предметы, а цвета.

С бабушкой Эмилией Соломоновной
Сейчас, друзья мои Мтф и Лиза, сделаю отступление — прочитала важную вещь про носы. Честертон справедливо сказал, что ваши носы дают нам представление о том юморе, который ждет нас в раю. Теперь читаю про них в статье: «Интересно, что у маленьких детей, которые плачут часто, слезно-носовые каналы еще не функционируют, и потому слезы скатываются по щекам. Но природа не злоумышляет против детей — в младенческом возрасте, когда психика еще не сложилась, травмировать мозг, по счастью, не так легко, как во взрослом состоянии» («Знание — сила», 1983, No 8). Сколько тут полезного! И одна из незамечаемых тайн — у взрослых слезы текут больше из носу, чем по щекам (в кино, значит, — условность); и напоминание, о ваших носах; и — еще раз о том, что «слеза ребенка» не так страшна, как у Достоевского. (Последняя тема ни конца, ни решения не обретает — думая о «воспитании детей», я никак не пойму, что же есть третье на земле, кроме попустительства и ломки, т. е. — насилия. Но не вы же мне ответите, когда бы вы это ни читали!)
Кстати о маникюре, он был очень важен для меня.
Вернемся к началу тридцатых годов. Собственно, я видела хвостик двадцатых, и все мои стойкие представления о них — оттуда. Мама и тетя стриглись шапочкой, натягивали колпачки до бровей, носили свитера с треугольным вырезом и узконосые туфли на пуговке. Бабушка Миля предъявляла мне все то из 20-х годов, что мама и Оля считали безвкусным, т. е. как бы и несуществующим, поскольку это взяли из прежнего, XIX века: камеи, янтарь, бронзовые статуэтки, фортепиано и, скажем, кружева5. Сюда же относились глубокие глазницы. Немых фильмов я не видела, разве что фото, но их не очень любила; однако глазницы эти входили в ряд «бабушки Мили», где были еще и фетровые боты, очень приятные сзади, как кошачья нога.
5 т.н. belle epoque.
Были и двадцатые годы портних. Сюда входили: гребенка сзади, часто — и уложенная нетолстая коса; черные грубоватые юбки подлиннее, чем у мамы с Олей, но не широкие и не шелковые, как у еврейских толстых дам; заскорузлые пальцы без маникюра. Кстати о маникюре, он был очень важен для меня. Одним из самых прелестных, хотя и вполне земных предметов была замшевая длинная штука для полирования ногтей; камень, которым их полировали, я помнила хуже. Маникюрша Полина Александровна входила в число портних. Я их очень любила, они принадлежали к царству хорошего и Божеского. П.А. помнила княгинь, которым тоже делала маникюр лет за 15 до этого. Ей было лет 40, наверное, как и всем портнихам. Звали их Полинами и Ксениями.
Няничкин мир появился позже. Тогда она была сама по себе и, с одной стороны, от меня не отделялась, а с другой, как сказали бы в Литве, не имела себе равных.

В той квартире, низко у пола, были еще две очень важные вещи: кот Тимка на коммунальной кухне и гладкие дамские ноги в фильдеперсовых и фильдекосовых чулках под столом. Ноги я гладила потихоньку, а на Тимку клала носовой платок и целовала его, иначе не разрешала мама.
Недалеко от нас была пожарная каланча, связанная с миром портних. С ними же были связаны такие отчества, как «Степановна», и некоторые имена — например, Маруся. Даму, если она Мария, звали Мура или Муся. Машей, мне кажется, тогда не звали никого, а Маней — мою другую бабушку, которая в Ленинграде не жила и в категории не входила. Сестра ее была «Нюра», что уж точно полагалось портнихам, но я, по-видимому, не помнила ее, узнала позже.
Категория «круглого коричневого пирога» чрезвычайно меня занимала.
Комната была, вероятно, деленая — два окна у мамы с папой, одно у нас; двери очень высокие, двустворчатые. Наверное, они и правда были высокие, а не только для меня — все же бывшие барские квартиры. К нашим соседям приходил Введенский, женатый на их родственнице. Позже я нашла у него тот воздух конца 20-х — начала 30-х годов, который стоял в квартире на Воскресенском. Керосинок и примусов я не запомнила, но помню слово «грец» — так няничка называла керосинку. Кажется, мы только грецами и пользовались, примусного шума в квартире не было.

Что мы ели? Наверное, пшенную кашу — были карточки и одно из «трудных времен», но еще и икру, и ветчину, связанные с торгсином. А может, с кооперативом? Навряд ли. Их приносили каким-то манером из торгсина, а керосин, пшено, подушечки, соевые конфеты — из кооператива. Кроме того, был рынок, а там капуста и ягоды. Из фруктов я помню только мандарины, очень значительные в моем мире: они были и оранжевые, и маленькие, и круглые. Апельсинов то ли не было, то ли они не имели значения, как большие. А когда мама привезла или прислала (?) веточку карликовых мандаринов из Сухуми, это был венец творения — точно то, что надо. Однако про мандарины я писала раньше.
С маленьким, круглым и желтовато-розовым (уже не совсем оранжевым) была связана тогда, связана и сейчас буква «Я». Не знаю, была ли она такой на кубике — вряд ли я до четырех лет читала по кубикам, хотя в 4 я читала, в 5—хорошо, так что все может быть. Но связывалась она больше со словом «Япония». У нас были картинки с японками в кимоно, очень для меня важные; среди прочего, там лежала хурма, которую няничка называла «японская вишня», но был и пирог, уже не желто-розовый, а желтый с какаовым, кажется — с вырезанным куском. Категория «круглого коричневого пирога» чрезвычайно меня занимала. Он был и отдельно, низенький, но не плоский, как подставка из-под деревянного аиста. Я очень любила и его, и эту подставку.
Заячий же цвет значил необычайно много, и Франциск с Честертоном это знают.
Буква «я» обрабатывалась в связи с маленьким, круглым и — чаще — желто-розовым так: 1) няничкин отец был Яков, а жил он на луне, она мне объяснила; 2) у соседей были родственники Яша и Миля, которые жили не на луне, а в Китае, похожем на Японию; 3) няничка читала скороговорку: «Жили-были Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони и Ципка-Дрипка-Лампа-пони». Получалось что-то
Знаки эти обозначали мир, который только поверхностно совпадал с тем, в который я тогда недавно попала. Я знала его, но уже не очень точно, скорее чувствовала, и для разговоров о нем орудовала только знаками. Няничка несомненно знала все, а другие — как кто, но это не очень меня трогало. Жила я до шести лет очень хорошо и потому не знаю, капризничала ли. Мама говорит, что нет; может быть, и так — не орали же и твой, Мтф, папа, и твоя, Элизабет, мама. Когда мне было полгода, моя мама, тогда еще без прозвища, заклеила мне пластырем пуп и оставила орать воспитания ради. Может, я поэтому не орала; а может — все-таки как-то капризничала? Знаю я только, что я много радовалась и еще не была дикой, а была скорей прыгучей и приветливой. Наверное, это значит «надоедливой» — например, в поезде я читала всем стихи: «В этой маленькой корзинке есть помада и духи, ленты, кружево, ботинки, что угодно для души». Такая назойливая приветливость — by-product тщеславия, конечно; но так ли это в 2–4 года? Не знаю.

В четыре года заметили, что я смотрю невесть куда, но я этого не помню, а старшие (не няничка) сперва ахали «Царевна Настасья», потом стали махать рукой у меня перед глазами. Должно быть, в лето, когда мне было три, а мама очень болела, я гуляла в Таврическом саду с няничкой и в Летнем — с бабушкой Милей. Там много значили желтые одуванчики в траве. Когда Честертон пишет о праве смотреть на одуванчик, я понимаю, что он знает. Он вообще один из немногих (в прозе — не единственный ли?), который знает именно тот мир, который знала и не забыла я. А вы какой знаете, такой же?
Важным было и заячье. Французская книжка с картинками — самая красивая из всех книжек за всю мою жизнь — содержала несколько важных знаков: 1) зайца с поднятым ухом; 2) очень большую луну; 3) девочку в европейском чепце дивного густо-пунцового цвета, который мы с няней называли сиремовым. Заячий же цвет значил необычайно много, и Франциск с Честертоном это знают.
Наверное, мы жили бы еще лучше (или хуже?), если бы не деление мира на бойких и тихих, которое я тогда узнала.
У меня была собачка Лялька, она же заяц, из козлиной шкурки. Может быть, она есть и сейчас, когда ты читаешь6, когда я пишу — есть, и живет очень ободранная у твоей, Лизетта, мамы. Подкладка у нее бордовая в белую крапинку; теперь шкурки почти нет, и это видно. Любила я ее так, как после этого Кешу, который сейчас простер хвост перед страницей.
6 2006 — есть. Еще ее звали Епишей.
Значит, надо кончать это письмо. Все, что я помню кроме этого, связано скорее с годами на Введенской, не говоря о Пушкарской.
Бабушка Татя

Второе письмо
Введенская. Стрижки. Куренная.
Киплинг и тюльпан. Садик и «Великан».
Бойкие и тихие.
Кукольная мастерская и сбор яблок.
Сестрорецк.
Про Введенскую я почему-то помню мало. Жили мы там примерно с середины (?) 1932 до лета 1934, два года. И возраст очень важный, 4–6, а мало помню, как будто я чувствовала, что жизнь там временная. Я не полюбила и не запомнила скверик на Большом, где мы гуляли. Лучше всего я знала даже не нашу комнату почему-то, а взрослую. Туда приходили молодые дамы, уже немножко другие, челки у них были не сплошные, а набок. Мало того: появились не прилегающие, а расширяющиеся стрижки, и я стала делить по этому признаку всех женщин. У Оли была прилегающая, у мамы — расширяющаяся. Я помню одну из дам лучше, чем прочих; собственно, няничка нечасто пускала или водила меня во взрослую комнату, которая называлась «куренная». Там действительно курили все, кроме папы. На большой тахте сидели молодые дамы в еще коротких юбках — я все нацеливалась на чулки и хорошо запомнила, когда была какая длина. С той дамой, которую я запомнила лучше других, связаны сказки Киплинга. Папа показывал картинки к ним и читал их. Тогда я слушала сказки и смотрела картинки как знаки тайн, и эти хорошо подходили. Тайны были двух видов: «как у них, тут» и «как было у нас, там». Учили меня этому навряд ли. Должно быть, лет до четырех-пяти это делается само собой.

Теперь я буду больше обращаться к тебе, Лизетта, по двум причинам. Во-первых, я еще не видела четырех- и пятилетнего Матюху. Во-вторых, тут я яснее помню, что чувствует именно девочка, и девочка тихая. По-видимому, тихой я стала именно на Введенской, хотя и не такой, как позже, с шести лет.
Зимы на Введенской я помню совсем плохо. Может быть, дело в том, что это был полуподвал, и, несмотря на тахту и какие-то огромные тюльпаны у взрослых, я ничего не считала там красивым. Удивительно, что я не любила и садик, хотя жила все еще очень хорошо. Даже не знаю, где именно он был, но знаю, что оттуда я видела кино «Великан», которого боялась. Это было первое, чего я явственно боялась, и позже я узнала его на изображениях урбанистических красот и урбанистических ужасов. Там, в глубине, был город 20-х годов; а у нас все было близко, под ногами и под рукой — снег, или травка, или песок, и жили мы приятно.
Господи, что делалось со мной в детстве!
Наверное, мы жили бы еще лучше (или хуже?), если бы не деление мира на бойких и тихих, которое я тогда узнала. Няничка называла бойкими тех, кто называется «от мира сего», или — теперь — пробивным. Не так давно я прочитала, что в каждом человеке есть три начала — детское, взрослое и родительское. По-видимому, это было что-то вроде «взрослого» — бойкие чувствовали себя как дома во взрослом мире. Тем временем он уже не состоял для меня из гладких дамских ног, бабушкиных камей и прочих радостных предметов. Я еще не знала, что люди злятся друг на друга, но здесь были трамваи — на Петроградской я видела их чаще, около прежнего дома они не ходили, и беспризорники, и одно животное, которое я до сих пор не могу назвать, и черно-красные рекламы кино. Взрослые этого не боялись; но я и не ждала от них особой связности, я удивлялась детям, дети были бойкие. Признаки — такие: они могли дразнить, то есть хотеть, чтобы ты испугалась или расстроилась, — это меня очень удивляло; они играли в игры вроде «Золотые ворота» или клаcсики, лихо покрикивая друг на друга. Наверное, главным в бойких было то, что они не считали священной чужую волю. Я так долго живу, Элизабет, и почти вернулась на свои следы, но этой загадки не разгадала.
Поскольку дети были бойкие, я играла одна, и помню себя в двух видах: 1) я сижу на корточках и что-то делаю в песке или в траве и 2) я стою лицом к старушкам, которые сидят на скамейке. Старушки говорили вещи непонятные и несколько суровые (не мне, о ком-то еще), но бойкими не были. Носили они плюшевые жакеты и завязывались платком. Как ни странно, я совсем не огорчалась, что играю одна, и никто меня не обижал. Вспоминаю я тот мир — самый мир — как приветливый. Вот и разбирайся!
На Петроградской было окно (позже оказалось, что оно — на Большом), где чинили кукол. Честертон пишет где-то, что дети любят витрины. Да, я их очень любила, особенно три: 1) эту, с куклами; 2) на площади Льва Толстого, где стояли красные шары голландского сыра; 3) в городе (кажется, на Невском), где была сценка во французском духе — крестьяне в штанах до колен и подоткнутых юбках собирали яблоки, причем лезли на дерево по лесенке. Просто не понимаю, как в 32–34 годах это могло быть.

Сколько мы там жили, не знаю, и ничего не помню, кроме одного: к нам ворвался мужчина в галифе и страшно на нас накричал.
И все же, хотя рай зимних времен существовал в том куске жизни, лучше всего я помню лето 1933 года. Мы жили в Сестрорецке, в доме отдыха Инснаба, что значит «Иностранное снабжение» (снабжение для иностранцев?). Если бы надо было написать стихи об этом лете, я посвятила бы по четверостишию таким вещам:
1) резеде, запах которой так и остался для меня дверцей в рай;
2) сосновым иголкам на теплой земле;
3) маленьким шарикам мороженого и листикам бисквита в металлической чашке;
4) сороконожкам, которые были и в книге про них, и на листьях, и на белых стенах;
5) важным открытиям:
а) что лето — это самый рай и есть. Оно тоже осталось на всю жизнь, а зимой, когда мы вернулись, я уже умела его возвращать и узнавать, глядя на картинку из каких-то времен года, где была трава с полевыми цветами;
6) что книги — учебники нравственности. Это сводилось к словам «стыд и срам» в «Мойдодыре». Няничка говорила «страм»; на картинке какие-то человечки показывали пальцем; я прекрасно знала, что это говорит Бог, и надо быть хорошей, С мытьем, о котором книжка написана, я это не связывала, оно получалось само собой — точнее, я не знала, как оно получается, рядом всегда была няничка. В то лето я уже могла заметить, что живу в 30-е годы и именно в этой стране, а не во Франции с лестничками и не в Японии с пирогом и мандаринами. Были пионеры, в том числе мальчик Буся. Была большая и бойкая девочка по фамилии Самойлович (с тех пор я помню, что 9 лет — это очень много), и ее не то дед, не то дядя, про которого взрослые что-то говорили, связанное с Северным полюсом. Был инженер из Бостона, с его дочкой Мицци я играла. Их я помню лучше всего, но гораздо хуже, чем наши многочасовые сидения с няничкой в лесу или в траве.
Господи, что делалось со мной в детстве! Когда-то почти все «чистенькие дети» росли так, но их было хотя бы помногу в каждом доме. Когда твоей маме стало года четыре, я молилась и просила, чтобы она не была таким сиднем, и она не была. Твой папа, Матюха, отчасти был, но по склонности — он все-таки бегал с детьми или хотя бы со своей сестрой. Можно ли выправить то, что было со мной? Как употребить во благо? Только ли это плохо? Почему попущено? Ничего не знаю!
На этом кончу письмо, потому что следующее лето придется описывать отдельно. Наверное, важнее его нет ничего в моей жизни.
Твоя Бабушика Т.
Третье письмо
(только Елизавете)
Происшествия. Фабричные гудки и Ботанический сад. Дом в Ольгине.
Розовый куст. Христос с детьми. Наши книжки. Улицы. Грех.
Вереск и папиросы.

На следующее лето мы поехали снова в Сестрорецк, но почему-то поселились не в доме, а в маленьком домике. Наверное, дед с кем-то сговорился (тогда я этого не понимала, да и потом не поняла). Сколько мы там жили, не знаю, и ничего не помню, кроме одного: к нам ворвался мужчина в галифе и страшно на нас накричал.
Сцена эта так много значит для всей моей жизни, что описать ее и даже сносно увидеть я не могу. Мы ушли — мне кажется, что сразу, но этого быть не может — и уехали в город. Там я должна была жить, пока не снимут дачу, а это было нелегко еще и потому, что родители получили трехкомнатную квартиру на Большой Пушкарской и собирались делать там ремонт. Наверное, мы жили июнь-июль или какое-то другое время с няничкой на Введенской, а мама с папой — уже там.
Снова угадал Честертон: важные вещи делаются не постепенно, а сразу.
Мы туда ходили, но квартиру я не заметила, поняла только, что во дворе сложены поленницами дрова, есть врытый в землю ледник и лежат какие-то пилы. Больше мы ходили в Ботанический сад, причем не с няничкой почему-то, а с Ириной Тернавцевой (сделаю комментарий, туда и смотри)7 и Катей. Мы брали с собой завтрак. Как я плохо это помню! Наверное, потому, что дни и ночи напролет я плакала в то время и просила, чтобы не гудели фабричные гудки. Я знала, что гудки связаны с тем мужчиной — не извне, а изнутри, потому что еще не кончился мир моих, неназываемых кусков бытия. Туда же отчасти относились и пилы, и рельсы, и картинка, где кому-то оперировали колено.
7 Не сделаю, пишу здесь: дочь В.А. Тернавцева, устроителя религиозно- философских чтений. Тогда он сидел или уже умер. (2008)

Книжки, которые тучей появились у нас, лили воду на мельницу XIX века
Мне легко вспомнить, что квартиры этой еще нет, я ее только жду и запоминаю всякие вещи впрок, например — что дерево, доходящее до наших окон, называется тополь, а живем мы на 4-м этаже. Казалось бы, жизнь началась с той квартиры, все главное было там — а представить, что ее еще нет, совсем нетрудно, и это иногда снится мне.
Наконец сняли дачу в Ольгине, у хозяйки Антонины Карловны. Наверное, мы жили там вторую половину лета и сентябрь — я помню, что на Преображение мы уже давно там, а на мамины именины, о которых напишу позже, еще не уехали. Своих именин не помню; но мы всегда праздновали их вдвоем и очень тихо. Дом казался мне большим, там была веранда. Может быть, я мало сидела дома; может быть, стояла хорошая погода, и мы, что в Ленинграде редко, все время были в саду. Но если бы я писала стихи про эти месяцы, я посвящала бы четверостишия вот чему:
1) Розовому кусту. Если бы ты представила себе, какой куст! Розы — толстые, большие, розовые, а в середине зеркальный шар, необычайно круглый. Ах, Лиза! Потом всю жизнь я нахожу его у Андерсена, у Честертона, и думаю найти на небе. Тогда я знала, что это — образ неба. Как и когда, не пойму, но я уже закрепила некоторые знания. Я понимала, что когда входишь в Церковь, видишь золото другого мира, который соединяла с тем, что надо быть хорошей. Я знала, что про Бога, ходившего по Земле, рассказывается в Евангелии, и часто смотрела на картинки к нему. Я все время без слов и какими-то подобиями слов благодарила. А куст тут был важней всего.
2) Гамаку, около которого жили крохотные лягушки. Как это могло быть? Неужели повесили гамак в таком сыром месте? Не знаю, но лягушки жили и даже для меня были маленькими.
3) Кустам ягод у изгороди, куда мы уходили. Я узнала слово «голубика». Неужели она растет и на кустах?
4) Множеству книжек, о которых скажу потом.
5) Темно-серому пуховому шарфу, который одновременно был Гадким Утенком. Тут скажу — сама не знаю, как написать, так это важно — что начало этой сказки всегда, на всю жизнь, стало для меня описанием этого времени: «хорошо летом на даче», улитки, зеленый свет в лопухах.
Кроме того, большую роль играли огород и свинья, которых я — как части рая — увидела снова у Честертона и не могу спокойно перечитывать кусок из «Нелепого Наряда» и «О комнатных свиньях», хотя давно перевела их.

Я часто думаю, когда я успела перейти от Рярь в скипидаре и оранжевых шаров в такой ортодоксальный христианский мир. Зимой, вообще на Введенской, его, видимо, не было. В Сестрорецке было скорее что-то протестантское — сосны, море и грозное «стыд и страм». Наверное, крик дядьки в галифе как ребром ладони перерубил что-то, потом я ушла во тьму с гудками, потом — вот так воскресла. Снова угадал Честертон: важные вещи делаются не постепенно, а сразу. К августу или концу июля уже было собрано все:
1) райский куст и совершенный шар в нем, но как бы и не в нем (зеркало);
2) зеленый свет и маленькие обитатели тварного мира (улитки, лягушки), явственно славящие Бога;
3) Христос с детьми, в синем и алом, а с Ним — и Евангелие, и тот XIX век, который с этой поры надолго стал самым реальным для меня: диккенсовская чувствительность, высокий либерализм, правдоподобное искусство, еще непонятная, как бы тайная скорбь и точный образ связи с Богом. Какие-нибудь психологи сказали бы, что я просто не смогла забыть картинку, где Христос одной рукой тебя обнимает, другую держит у тебя на голове, может — гладит, может — благословляет. Что ж, они правы. Картинка эта могла дать и странное искривление, которое если прошло, то поздно, лет за сорок: даже в самые глухонемые и бесноватые свои времена я не сомневалась в спасении. Наверное, это нехорошо. Такое примерно чувство: ну, неужели Он меня отпустит, Он же очень этого не хочет! И так же долго я считала, что с моей стороны нужно только одно — не искать своего; а понимала я это несколько сдвинуто — обожествлять любую волю, кроме своей, «со всеми считаться». Лет до 45 я не видела, что тут не сойдутся концы. Господи, теперь я столько знаю об этом, но ведь и смерти, что к чему?
Я бросила в няничку маленькую скамейку. Слава Богу, не добросила.
Ты скажешь, Элизабет, что все без меня понимали. Если в 2000 годы будет так, как в моей юности, важнее открыть милость и непротивление. Ты не поймешь, как не поняла бы я в 50-х, почему концы не сходятся, раз должны сойтись. Если вы, как вот сейчас, сами откроете необходимость строгости и заметите цепкость первородного греха, ты снисходительно (?) улыбнешься. Ан нет, друг мой Элизабет, не так это просто — в жизни, на шаре, а не на плоскости.
Книжки, которые тучей появились у нас, лили воду на мельницу XIX века. Не сухого и приторного, породившего почти всю «дособорность», а андерсеновского и диккенсовского. Что Андерсен и строг, и очень печален, мы почти не чувствовали. Печаль его входила в ту, тайную, и не больше. Диккенса мы еще не читали, и набор наш состоял из «Переписки двух куколок» (о, если бы ее хоть увидеть!), «Сониных проказ», «Примерных девочек», «Доброго маленького чертенка» и — главное — «Леди Джен». Культ «Маленькой принцессы» и серии «Маленьких женщин» начался в городе. «Фаунтлерой», кажется, уже был. «Мурзилка» («Лесные человечки») был и раньше, а здесь составлял наше комическое чтение. Если к моим письмам не приложить этих книжек, ты ничего не поймешь про те годы, и я верю и надеюсь, что они у тебя есть.
Тогда посмотри на две вещи: круг, в котором сидят девочки (или девочка и мальчик) на обложке «Золотой библиотеки», и вечерние сельские пейзажи в начале и в конце глав. Я и картинки люблю только те, которые на них похожи. Улицы в Ольгине тогда были заросшие травой, а уходили они в поле, за которым был лес. Переводя Честертона, я тысячи раз узнаю их и небо над ними, и не устаю надеяться, что узнают читающие.
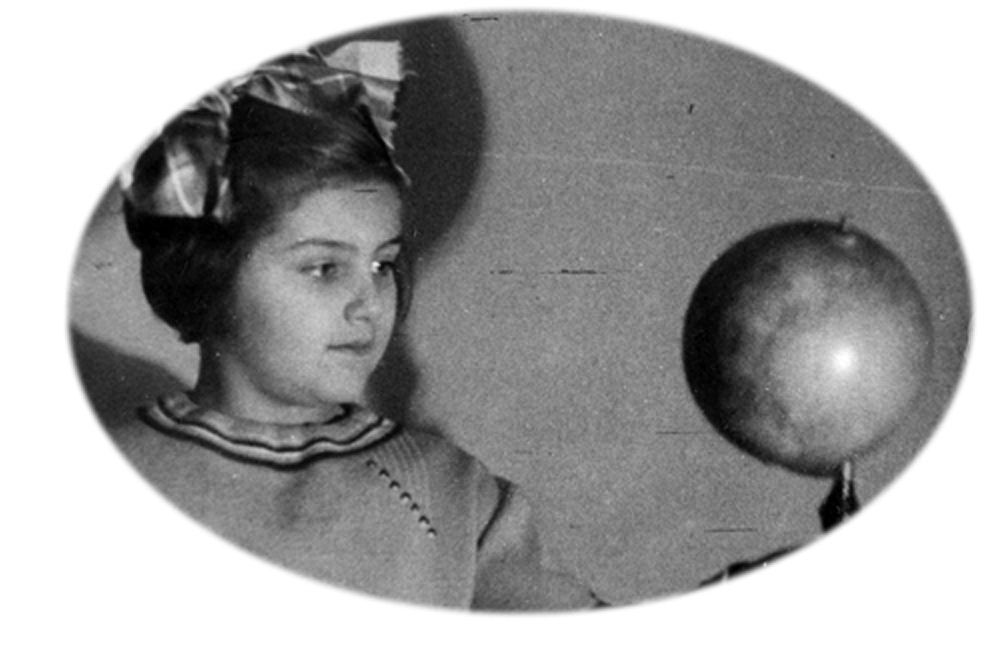
Зла в Ольгине не было. Гудки не гудели, только «Мюнхгаузен» намекал на какие-то безобразия, но мы его не стали читать, хотя позаимствовали одно выражение: «Ни минуты не медля». Оно нам очень понравилось, особенно потому, что мы считали «медль» (родительный падеж — «медля») загадочным существительным, и значило все это вместе «ни капельки», но во времени8. Итак, зла не было, и мой страшный грех возник прямо от бесов. Я не узнаю на земле, что же это было такое.
8 Соответственно, предполагались… «нимедля».
Тоже рай, но менее умилительный, чем у нас в садике, более дворцовый.
Я бросила в няничку маленькую скамейку. Слава Богу, не добросила. Было это так: я стояла на террасе, няничка — около ступенек. Мне трудно даже всматриваться в это, хотя вижу я много — и грядки за углом домика, и куст впереди, и гамак впереди и налево, у изгороди, но смотреть не хочу. Не знаю я и того, что было сразу после этого. Я помню долгую историю плачей, объятий и покаяний, но вряд ли они начались немедленно. А впрочем, не знаю. Зато я знаю, что к 30 сентября написала маме письмо — видимо, слух уже дошел до города (как?): «МАМА ПРАСТИ НИ СКАЖИ ЕТА ПАЛИ!» Если оно сохранилось, приложу к письмам.
Кроме того, мы готовили маме хитрый подарок. Чтобы понять слово «вечность», «вечное сейчас», я могу перейти в те часы (?), в то остановившееся состояние, когда мы делали букетики из вереска, клали в них папиросы и писали бумажку: «Это последние». Мама бросила курить через 20 с небольшим лет. Писать дальше не могу — наверное, так в вечность и переходят, как будто ударилась о прозрачную стену.
Бабушка Т.
Четвертое письмо
Дом 46/48. Дом 26/28. Улица и садик.
Время и лавки. Двор. Дюшес и барбарис.
Когда мне удастся дойти до самого рая, там окажется многое, что было на Пушкарской, но как бы в разгаданном виде. Помню, рожая твоего папу, Матвей, я узнала и боль, и какие-то другие ощущения, без особого смысла бывавшие раньше. Так и тут. Только, все-таки, на Пушкарской смысл был.
Чтобы успокоиться, опишу дом, улицу и квартиру. Дом оказался очень странный: внизу полукруглый вход, белые колонны, высокие окна; у лестницы — ниши, в одной какая-то богиня, которую мы с няничкой называли почтительно «богинья». Это бывший особняк, а на нем — надстройка, третий, четвертый и пятый этаж. Наша квартира на четвертом, номер ее — 24, а наш телефон В-4–24–99, никогда не забуду. Верхние этажи в духе дешевого Корбюзье — широкие окна (у меня — поперек себя шире, у мамы — среднее, у папы — два окна, балконов нет), дощатые полы, довольно низкие потолки. Так сошлись в этом доме те два духа, которые и были главными в моем детстве. Напротив была улица,
которая вела прямо к нашим воротам: собственно, это были две улицы, а посередине — Матвеевский (да, да!) садик. Всю жизнь я узнаю их, чаще всего — у Честертона; но удивительно не это, а то, что я сознательно узнавала будущую и вообще существующую здесь жизнь. Дом 26/28 о 12 дворах был образом красоты, а если уже — замка. К садику выходил очень большой, мощеный двор с фонтаном; на доме были башни. Его серовато-розовые кирпичики остались навсегда не только лучше всех европейских архитектур — может, и не лучше — а как бы «ну, Бог с ними, могу и не видеть, я видела дом 26/28».
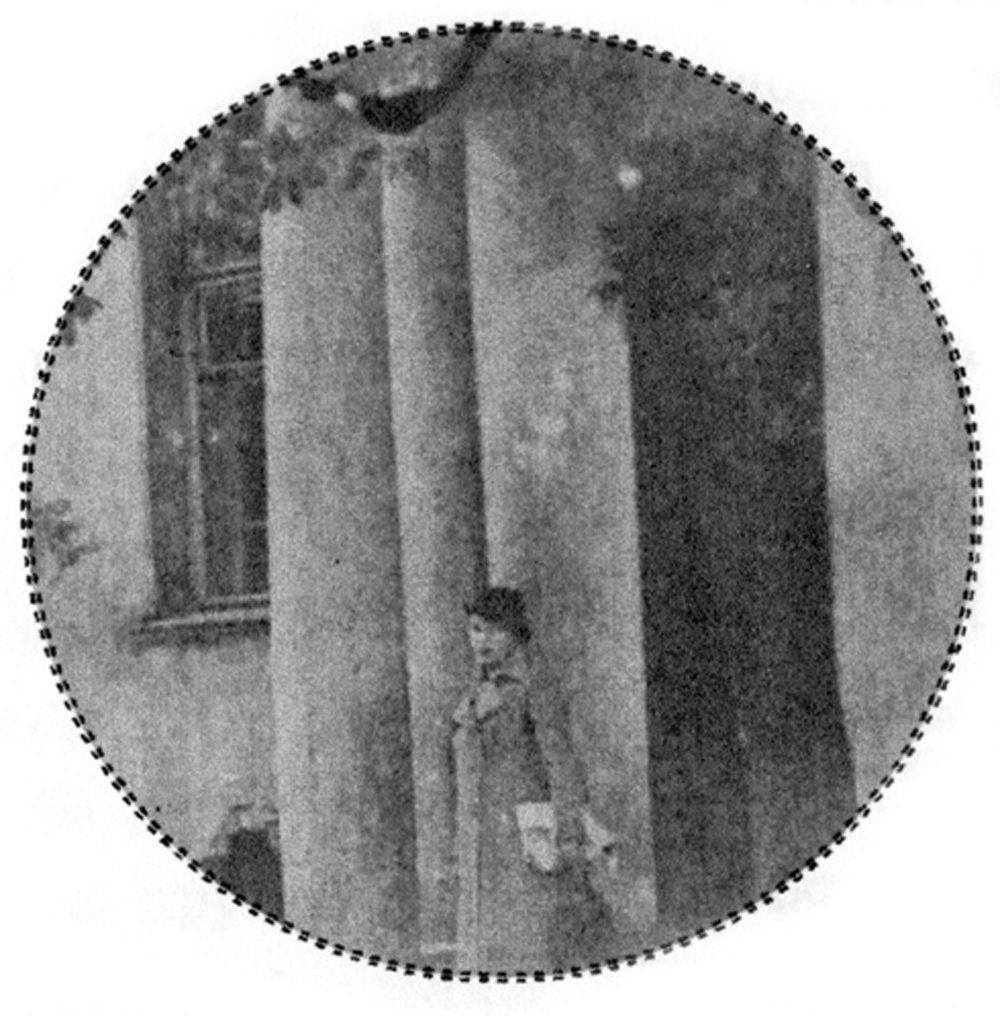
Матвеевский садик остался реалией садика, и я никогда не устану славить садики, как могу — вечером, у стола, переводя англичан, которые так хорошо их знали.
Время остановилось на полтора года, даже меньше, хотя по сторонам оно двигалось, и летом 36-го мы с мамой шли через садик, посмотрев в кино физкультурный парад, а осенью 34-го я и догадаться о таком не могла бы, стоял XIX век, и видели мы негра со светильником в универмаге, фарфоровых кукол в комиссионном на Большом, церковь у Тучкова моста. Когда недавно, в 55 лет, я читала записки Бенуа, вернулся именно этот рай, больше всего — на тех страницах, где он пишет, как они с мамой ходили по лавкам, в 80-х годах того века. Я читала «Фаунтлероя» и «Леди Джен», а тамошние лавки (см. картинки!) и друзья детей, лавочники, были гораздо реальней, ближе к реалии, чем магазины 34–36 годов. Да я и не ходила в них, кроме универмага, где мы с мамой были чуть не на второй день. Наверное, тогда же мы пошли в комиссионный и купили леди Джен, которая дожила до июля 73 года, а если Ася ее все-таки склеит, перейдет к тебе, Лизетт.
Дальше, по другую сторону улицы и если пройти от Кировского, по направлению к Тучкову (но близко, по левую руку садика — я отсчитываю с его точки зрения) была решетка, и деревья за ней. Ее я узнала тогда в «Леди Джен», где обнищавшая леди смотрит на освещенные окна, а позже — в речи Вейна («Наполеон из Ноттинг-хилла»).
Самое прекрасное и таинственное место было за садиком, сзади. Но сперва скажу, что из садика были видны немаловажные дома. Если идти от нас, то слева, после великолепного, как в Испании, двора 26/28, были образцы Америки конца XIX — начала XX века. Пойдите, посмотрите, что там такое. В этом доме жили Черкасовы, вообще он был сановный, но почему-то он казался мне миллионерским, и даже с садами на крыше, хотя я знала, что их нет. Кажется, в нем жил и Борисов, что способствовало игрушке, которую я сделала из «Мусоргского» в 51 году. Но об этом поговорим позже.
За самым этим домом располагалась фабрика «Комсомолка»; ворота с вывеской; здания я не помню — может, его и не было видно. Есть миф, что первое слово, которое я прочитала, — эта вывеска, но вряд ли в 6 лет я уже умела читать.
Был и другой садик, на Кировском. Папа отвел нас туда чуть ли не раньше, чем мы пошли сами в ближний, Матвеевский. Там я гуляла то ли позже, то ли реже, и он стал образом именно того, что увидел гадкий утенок в конце повествования: озеро, сирень, дети на берегу. Тоже рай, но менее умилительный, чем у нас в садике, более дворцовый.
Мамина комната, лимонная, получилась самой красивой.
Однако за нашим Матвеевским садиком были таинственные места9. Кажется, можно было пройти на Ситный рынок — тоже красота немалая, и лестница, как в древнем храме, — но и вообще кто-то там обитал особенный. Я непрестанно придумывала сказки про этих людей и фей. Бог даст, пойдем туда и посмотрим.
9 Их я узнала в 1998 году, гуляя по Пимлико (Лондон) (2007)
Когда мы приехали, сразу папа дал нам денег на конфеты с лотка, и мы купили «Дюшес» и «Барбарис». О, Господи, если бы можно было передать такие вещи! Но, слава Богу, у вас обоих есть свои.
Бабушка Т.

P.S. Ах, забыла о дворе! Во-первых, у нас были настоящие ворота, с замком и перекладинами. Значит, был и забор, но я его не помню. К нашему подъезду шли плиты. Слева от них был домик, где жил управдом (или был ЖАКТ, все равно), а поближе ко входу — столик под сиренью и, рядом с ним, какой-то похожий на мшистую горку ледник. Наверное, никто уже не пользовался им; я его очень чтила.
За столиком, когда погода позволяла, сидели Митрохины, он сам и жена его Алиса. Жили они в особняковой части, и я бывала у них. Постараюсь в приложении сказать о Митрохине.
Направо от ворот стоял домик, где жили старушки Лукашевич. Позже я бывала у них (то есть, скоро стала бывать) и смотрела замечательные книжки конца прошлого века, с временами года, охотничьей осенью, замками, детьми и т.п. Когда в 1971 году я прочитала, что в нашем дворе был первый русский костел отца Дейбнера, я решила, что там он и был. Как иначе? Теперь обоих деревянных домиков нет. Вместо них, по всему двору, стоят игрушечные слоны и карусели. Вот как все на свете правильно.
Бабушка Т.
Пятое письмо
Папина комната. Мамина комната.
Наша комната. Угол в коридоре.
Книжники, фарисеи и прекрасные алоэ.
Вежливые слова. Слова вообще.
Куклы. О тихих.

Папина комната была первой, прямо из передней. В каждую был вход из коридора, мамина — средняя — оказывалась еще и проходной, получалось вроде анфилады. Итак, папина шла первой, и в ней было два окна. У правого стоял письменный стол с тумбочками и красивейшим зеленым сукном. Когда входишь, справа — тахта, но за ней, по стенам — полки, и как раз над тахтой оказывался Диккенс, старое издание, серое, с профилем в кружочке. Там, где стены видны, они были фисташковые. Слева стоял круглый стол, рядом — кресла, а сзади — диван, который сейчас у Жаки. В переднем левом углу был телефон, у самой двери к маме.
Потому я и боялась бойких
Мамина комната, лимонная, получилась самой красивой. У окна стоял овальный краснодеревный столик (вы оба знаете его), а по сторонам — те креслица, от которых сейчас остались ножки и сиденья (см. у Жаки). Слева был коротенький, как говорила няничка, — кубовастенький рояль. Сзади, закрывая дверь в коридор — тахта, а справа10, у задней стены — кафельная печка углом, с ангелочком. Ах, как это было красиво! У папы тоже стояла печка, в таком же углу, но без головки. Кроме того, Жака купила маленькую хрустальную люстру а 1а тиара, очень маленькую. Сейчас обнаружилось, что не только я, но и какие-то важные знаменитости (Жака многозначительно обещает сказать, кто) считали эту комнату самой красивой на свете.
10 Если стоять спиной к окну.
Не то что наша. Она заведомо красивой не была и не собиралась. У нас было широкое, в три створки, окно. Рядом с дверью к маме стоял шкаф с занавесочками, перед окном — стол, по той стене, где дверь в коридор — моя кровать, железная белая, а по глухой стене — такая же няничкина. Между ними, в углу, была кафельная печка, но не срезанная, как у мамы и папы, а параллелепипедом, и квадратики очень четко выделялись на ней. Стены у нас были голубые, потолок — бледно-бледно-розовый. Ламп не помню, но какие-то были, иначе я не поняла бы уюта нашей комнаты — грех сказать, при верхнем свете я вижу что-то вроде больничной палаты. Были у нас и полки с книжками. А вдоль коридора сплошь шли полки; стояли они и в передней.
В доме важную роль играли плахты. До сих пор я не могу на них спокойно смотреть. Что только ими не покрывали! Попробую найти кусочек и дать в приложениях.
Наша комната, собственно, выходила не в коридор, а в маленький коридорчик, откуда шли двери в кухню, ванную и уборную. Кухню я почему-то помню очень плохо; все, связанное с ней — капуста, метла, корзинки — я видела и в других местах. Ванную помню лучше; там меня пленяла колонка, дровяная, а не газовая. А лучше всего я помню угол, где коридор сменялся коридорчиком.
Там, среди полок, стоял шкафик, и это было очень таинственно и правильно. Иногда на этом шкафике лежали яблоки, и назывались они крымские. В шкафике хранилось вино; пробегая там, я стала его по капле отпивать. Когда няничка об этом узнала, она охала. Родители же радостно рассказывали знакомым.
О, Господи, что было бы со мной, если бы не няничка! К папе ходили неаккуратного вида юноши, очень черные. Они приносили книги, и няничка называла их вполне серьезно «книжники и фарисеи». Это мне нравилось; они были не просто таинственные, а еще и Божеские какие-то. Примерно в то же время — наверное, в первую зиму на Пушкарской — мы нашли в переводе «Витязя в тигровой шкуре» (я раскрашивала там картинки) очень поучительное четверостишие и стали его петь. Часто, сидя рядом, я — на скамеечке, мы благочестиво выводили:
Как прекрасное алоэ
В золотых садах Евфрата,
Восседала на престоле
Та, чьи брови из агата.
Как рубин, уста горели,
Лик был светел, как кристалл (криста-ал).
Ни один мудрец афинский
Красоты такой не знал.
Меня смущали только рубины — я знала, что они подходят какому-то другому типу женщин. Зато кристалл все ставил на места. Афинский мудрец и впрямь не знал такой красоты, куда ему, но мы об этом не думали; я просто не понимала, что такое «афинский», а няничка, по-видимому, принимала это за «афонский».
На нашем шкафике (у стены, смежной с маминой комнатой) лежал большой шар из серебряной фольги. Его скатывал папа из всех конфетных оберток. Значит, тогда были и шоколадные конфеты; но я их не помню. Помню плитки шоколада, и как няничка, если мне такую дарили, сейчас же посылала меня угощать взрослых. Если они отказывались, она их увещевала, и брали.

Вообще же отношения мои со взрослыми, кроме нянички, были глупые. После крика тем летом я из эгоцентрично-всеприветливой стала застенчивой. Но это бы еще ничего, а мне стало очень трудно говорить ритуальные слова, даже прощаться и здороваться. Я ощущала в них неправду — вот, люди говорят по ритуалу, а на самом деле чувствуют что-то другое. Так было довольно долго, потом я сдалась, но с огорчением думаю, как нехорош был этот перекос. Теперь-то мы знаем, во что превращается лишенное фальши создание, которое еще мог беспрепятственно воспевать Сэлинджер в 50-х годах. Но сколько я прожила, этого не зная! А душа портилась. Не оправдываясь, а объясняя, скажу только, что и для Сэлинджера, и для Белля, и для Жака Тати, и для меня реальным было зло только авторитарного человека, набиравшего тогда силу. Столько страданий и столько открытий пущено на противостояние ему, а что получилось? Хипарь-потребитель? Когда ты будешь это читать, худо-бедно наберет силу какой-то еще характер, который сейчас раскармливают для противостояния холдэн-колфилдовскому11, давно утратившему и фаунтлеройство, и ранимость. Честное слово, как бизоны ходят, а ведь вроде и нервные! Но кто мог это предсказать?
11 См. у Сэлинджера
Наверное, напишу об этом еще, а сейчас расскажу вам о няничкиных действиях со словами. Говорила она правильно, хотя «у колодца» (подпись под картинкой) понимала как «в колодце» и несколько удивлялась. Были у нее свои выражения: «Несло собака!» (смысл неясен, что-то вроде удивленного междометия); «Без него кот не оженился, кошка замуж не вышла» (поговорка о суетливых людях, которые всюду лезут). Но самое интересное бывало с песнями. Особенно нравилась ей привезенная Эйзенштейном из Мексики и кем-то странно переведенная песня «Тегуан-тепек». Она с удовольствием и часто ее пела, как «Туман-чепец». Сильно радовали нас странные строчки: «Я бы и сам, свернувшись в кольцо, цокнул копытом, / Только б увидеть твое лицо, Сьерра-Чикита». Припев «Ай-я-я-яй, розы измяты…» пели как «розы из мяты», и сами удивлялись загадочности таких роз. Любили мы книжку «Маленькая принцесса», а там была старая мышь (он) по имени Мельхиседек. Это имя няничка знала и так, однако производила его от «меляки и седяки». Получалось очень загадочно и мудро, так что я не удивилась, встретив потом уже сама в Писании таинственного Мельхиседека.
Вместе, хотя и под моим руководством, давали мы имена многочисленным куклам. Главной, без соперниц, была Лялька, позже прозванная Епишей. Про нее говорили: «Дай мне Ляльку у кровать, я ее буду целовать». Сразу по переезде на Пушкарскую купили мы с мамой леди Джен, которую няня называла Ледичка. Немного позже купили уже не белокурую, а темно-рыжую, тоже фарфоровую куклу и назвали Шюнэ, поскольку именно так Люция Робертовна, немецкая учительница, произносила слово «красивая». Попозже появились две огромные фарфоровые куклы — Руфь и Изабелла. С ними играть было трудно, и они сидели в креслицах.
Теперь я перейду к самому важному — наверное, так, если и сейчас, на шестом десятке, я не могу от этого избавиться. Люди для нянички делились двояко: на бойких и тихих и на важных и тихих. О бойких я писала во втором письме, но хочу прибавить, что именно такое деление нашла я в псалмах, особенно в 36-м. Там умелые и шустрые, и хорошо усвоившие игру мира сего. Он (псалмопевец) им завидовал, но потом понял, что их удач как бы и нет, до того нет, что Бог только смеется. Удачи эти и радости — как дым («исчезнут, в дыме исчезнут»); зато другие люди, игры не знающие, наследуют землю, у них накапливается что-то прочное, и Бог их держит за руку. Передать не могу, насколько непререкаемым было для нас это «тихие побеждают». Потому я и боялась бойких — ведь все же сейчас, сию минуту, они могут и сделать тебе гадость по правилам их игры — и не питала к ним ненависти. Куда там, мы с няничкой их жалели.
Но «тихие» выступали и в другой дихотомии (если вы, М. и Е., еще не знаете, что это, спросите). Итак, еще было деление на «тихих» и «важных». Важные, как потом выяснилось из псалмов, надмевались, а из Евангелия — получали награду свою, смеялись ныне и т.п. Ближе всего можно описать этот сплав гордыни и фальши примерно так: они были довольны собой и не знали сомнений, потому что выполняли четко очерченный свод правил — кто дамских, кто церковных (не «христианских», а именно обрядоверческих), кто комсомольских каких-нибудь, хотя этих я тогда еще не знала. Поскольку удовлетворенность от выполненного набора заведома неверна, получалась фальшь. С той поры гордыня и фальшь для меня неразделимы. Внешние их признаки — апломб, хвалят себя, ставят себя в пример, голос или злой, или сладкий. Это не все, но главное. Может быть, я боялась их еще больше, чем бойких. Правда, они и злее. Бойкий совсем не обязательно отвергает «не такого», он бывает даже благодушным; а важный — обязательно. В псалмах о них тоже немало сказано. Собственно, и в псалмах, и в Евангелии ясно названы и бойкий, и важный. Посмотри, кому «горе вам» — они и окажутся.
Может быть, этого ты сейчас не поймешь, так что остановлюсь.
Загвоздка в том, что тихих очень мало. Няничка знала это, и жизнь была для нее испытанием, хотя ее ни бойкие, ни важные не обижали. Помню, она сказала, что больше всего на свете любит ночь, когда спит, и я очень удивилась. Вот смотри, куда уж блаженнее старость, чем у нее12, а ведь она была «плачущая»! Наверное, и нельзя иначе, плачущие блаженны, а «опошленный стоицизм», как пишет Конгар, просто не относится к делу.
12 Об ее стопроцентно мученической смерти сейчас не говорю; наверное, ты и знать о ней не должна лет до 25–27.
Может быть, этого ты сейчас не поймешь, так что остановлюсь.
Бабушка Т.

Из «Банки света» ~ 1931–2 гг.
По дорогам очень трудно
На повозках проезжать,
А по морю, по водичке,
По водичке речевой
Можно лодкам проезжать.
Извозчики теперь
Наделали дорог, дорог, дорог,
Чтобы не залавливать
Людей, людей, людей.
Вот трамвай
Электрический идет,
Там дуга,
Очень крепко, очень крепко.
Электричество смешное
Без висюльков, без виськов,
Вот оно какое,
Электричество.
Alleluya







