Россия ’08: кухонная ксенофобия
В создании материала участвовал Лев Гудков, в 2025 году внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Можете ли вы, как социолог, рассказать, насколько остро сейчас в российском обществе стоит проблема национализма?
СЕАНС — 37/38
Для того чтобы начать об этом рассказывать, необходимо предпринять небольшой понятийный и исторический экскурс. Что такое вообще «национализм»? Это вера в единство происхождения и общность судьбы. На этом мифологическом уровне он возникает в любом массовом обществе. Это единство в рамках территориально-этнического целого — поверх социального, сословного, возрастного и прочих делений. Но для того, чтобы национализм был «живым», его должна напитать какая-то идея. Должно появиться то, что сейчас называется модным словом «национальный проект». От того, что «спроектируют» элиты, зависит и характер национализма. Например, в Прибалтике и Восточной Европе национализм, особенно в позднесоветское и постсоветское время, носил эмансипационный характер. Не в пример нашей «национальной идее», которая традиционно окрашена в консервативные тона. На протяжении всей нашей истории мы имеем дело с волнами защитного, или компенсаторного национализма. Первым таким всплеском было черносотенное движение, которое возникло как реакция на первую волну модернизации России. Что характерно, инициаторами черносотенных движений были отнюдь не низы, не лавочники, не охотнорядцы, а бюрократия довольно высокого уровня. Вспомните Шульгина, Пуришкевича и других депутатов-националистов. С тех пор эти всплески охранительно-номенклатурного национализма повторялись в разные периоды, но всегда на один и тот же лад. Сталинский национализм был связан с рутинизацией революционного процесса, с необходимостью закрепить, узаконить сложившийся тоталитарный режим, связав его с традиционными элементами русской Империи. Поэтому уже в начале 30-х годов было восстановлено преподавание истории в школе, ранее упраздненное большевиками, появился культ русских классиков, с большой помпой был отпразднован юбилей Пушкина, началась пропаганда русской исключительности и борьба с космополитами.

Все это должно было перевести интернационализм и революционное миссионерство в более привычное имперско-националистическое русло, непременными компонентами которого были изоляционизм, противопоставление России и Запада. Третья волна номенклатурного национализма поднялась при Брежневе — как реакция на неудачные попытки хрущевских реформ, модернизации социализма. Очеловечить социализм не получилось ни у нас, ни в Праге, реформы, угрожавшие всей системе, провалились, и новый режим стремился закрепиться, обращаясь к ресурсам патриотической гордости за Победу в войне, мощи нашей армии, успехам в космосе и песням о «русском поле». Брежневский аппарат окончательно отказался от коммунистической идеологии и начал воссоздавать культ «русскости», идеологию великой страны, великой державы, империи, замкнутой и самодостаточной в своем существовании.
И хотя значение Победы как национального триумфа в XX веке сложно переоценить, ее используют как определенный инструмент для убаюкивания национальных комплексов.
Сегодняшний русский национализм — это во многом реакция на неудавшиеся, половинчатые реформы. Еще при Ельцине начинается поиск национальной идеи, который в полную силу разворачивается при Путине. Полным ходом идет возвращение к мифологическим «истокам», к православным основам русской культуры, национальным ценностям, опять мы празднуем казенные юбилеи русских классиков и смотрим по телевизору парады в День Победы. После краха всех попыток изменить политическую систему и придать российскому государству более современный, демократический вектор. Потребность в закреплении авторитарного режима была очень настоятельной, и власть провозгласила курс на консервацию, переназвав ее «стабильностью».
Какие чувства и комплексы настроений таким образом эксплуатируются?
В первую и главную очередь — мотив национальной ущемленности, неполноценности. В наших исследованиях мы зафиксировали начало и последующую динамику этого переживания коллективной травмы идентичности. В конце 80-х, на фоне ожидания перемен и чуда прихода новой жизни («Россия должна стать нормальной страной», «так жить нельзя»), происходила стремительная переоценка недавнего прошлого, развивалось то, что я называю «черным сознанием». В наших опросах появились такие ответы: «мы нация рабов», «мы хуже всех», «мы пример того, как не надо жить». Такое самоедство с 3% в 1989 году доросло до 57% в 1992 году. В обществе появилось ощущение, что наша история, прежде всего — советская, которой так долго заставляли людей гордиться, представляет собой воплощение кровавой бессмыслицы, цепь страшных преступлений, иррациональное по сути и масштабам истребление (или самоистребление) народа.

Справиться с этим, понять, почему так оно происходило, что в нас самих такого, что привело к лагерям, обернулось почти тотальной человеческой деградацией, российское общество оказалось не в состоянии. Смутно понимая, что дело не в личности Сталина, на которого многие пытались списать все злодейства, люди испытывали сильнейшую фрустрацию, выплеснувшуюся в коллективном, хотя и не истерическом, а скорее мазохистском, самопоношении. Но уже с 1994 года острая фаза кризиса самоидентичности, негативных самоопределений прошла, начали набирать силу другие ответы: «нам нечего стыдиться», «другие не лучше, у всех народов есть свои темные страницы в прошлом», а «у нас была великая держава», «нечего нам сравнивать себя с другими, у нас особый путь» и т.д. Главным же тезисом, отражающим национальную идентичность, стала фраза: «Мы нация, которая, при всех недостатках, вопреки издержкам сталинской системы, победила фашизм». Таким образом, Отечественная война становится средоточием национального самосознания. И хотя значение Победы как национального триумфа в XX веке сложно переоценить, ее используют как определенный инструмент для убаюкивания национальных комплексов. И это надолго закрыло возможность для рационализации собственной истории. В обществе возникло безотчетное стремление к самоутверждению, любыми средствами, в любых формах. В частности, оно стало оборачиваться склонностью к насилию, разного рода силовым акциям и тому подобному.
Что кажется логичным: если нации нечем гордиться, кроме как военными успехами, насилие как путь к самоутверждению возникает на подсознательном уровне.
Совершенно верно. И поэтому в люмпенизированной среде, особенно среди молодежи, начинает преобладать пустое силовое самоутверждение. Молодежные группировки разного типа существовали и раньше. Но они, как правило, сталкивались между собой. А на том депрессивном фоне, который я описал выше, они естественным образом начали консолидироваться, направляя свою агрессию на чужих, на пришлых, на тех, кто отличается формой носа, разрезом глаз, цветом кожи. И в этом нет ничего удивительного: если людям долго рассказывать о том, что они принадлежат к великой нации победителей, а при этом они бедные и полуголодные, плохо одеваются и живут несладко, то кто-то в этом должен быть виноват. Значит, есть враг, есть враждебные нам силы, есть чужой нам, от которого можно избавиться.
Ненависть возбуждает потребность во врагах.
Давайте остановимся на этих молодых людях подробнее. Кто это такой — русский фашист? Сколько ему лет? Что он ест на завтрак?
Думаю, никому не открою тайны, если скажу, то это молодой человек 17–29 лет, с невысоким уровнем образования и сравнительно низкими доходами. Житель либо средних и малых городов, либо периферии крупных городов. Во всех случаях — это социально депрессивная среда. Важно, что это молодые люди, не нашедшие себя в жизни. И та жизнь, которая находится рядом и привлекательна для них, им недоступна. Успех, признание и богатство им не грозят, поэтому у этих ребят очень развит комплекс социальной зависти, которая служит энергетическим источником для агрессивной ксенофобии. Что они едят на завтрак? Не думаю, что питаются они слишком хорошо, так как, повторюсь, у них не очень высокие доходы, а кроме того, они едва ли в состоянии как-то разнообразить свой стол, ибо для этого нужна идея культивирования чувств, шкала вкуса, рафинирования переживания, пусть даже гастрономического. Правда, сейчас к этим группам примыкает и часть студенчества. Если в 90-е годы студенты составляли самую либеральную прослойку, то теперь учащаяся молодежь расколота примерно наполовину — на либералов и консерваторов с националистическим оттенком.
Чувства, которые испытывают эти ребята, — собственная неполноценность и ущемленность. Отсюда склонность к гипертрофированному мачизму, мускулинности и попыткам утверждения себя самым примитивным, силовым, авторитарным образом. Но главное, что их питает, выводит на улицы, сбивает в группы, — это разрыв между возможностями и самооценкой. Разрыв сильный и болезненный. Он порождает чувство ненависти, которое обрушивается на чужаков. Идеологию большинства российских националистических группировок радикального типа можно выразить предельно лаконично: «Я ненавижу, следовательно, я существую». Психологи называют это «слабым Я». Враг нужен, чтобы я мог почувствовать себя лучшим, чем он. Это единственный для такого сознания способ обозначить себя, придать себе ценность и смысл. Ненависть возбуждает потребность во врагах. Вообще говоря, рост этой потребности характерен для всего российского общества. Образ врага — своего рода паспарту, куда очень удобно вставить тех, кто нам не нравится: еврея, кавказца, американца. На вопрос, есть ли у нас враги в 1988–1989 г. отвечали утвердительно только 13%, а больше 50% говорили о том, что корень зла находится в нас самих. В 2003 году с тем, что у России есть враги, согласились 78%. Из чего можно заключить, что образ врага стал интеграционным механизмом для российского общества.

Мы объединяемся только через представление о другом, наделяя его всем тем, чего не видим в себе. Скажем, наш вечный «враг» — это американцы, и они бездуховны, лишены культуры, неумны, высокомерны, эгоистичны. Высказывающий подобную точку зрения обыватель поднимается в собственных глазах по умолчанию, от противного наделяя себя соответствующими позитивными значениями.
А кто на сегодняшний день является «главным врагом русского народа», на кого приходится основной удар ксенофобских настроений?
Наша ксенофобия не концентрируется на каком-то одном образе. Опросы говорят о том, что, как правило, если у респондента есть одна фобия, то у него можно легко нащупать и весь букет. Антикавказская фобия пересекается с антицыганской, с антиамериканизмом и антисемитизмом. Причем ксенофобия даже не всегда носит националистический характер. Человек просто противопоставляет себя другим — высоколобым, геям, власти. Важна мобилизация ненависти — и неважно, на кого она выплескивается. Но если говорить о нынешнем времени, то самый распространенный образ чужого — это мигрант. По нашим опросам, идею «Россия для русских» в той или иной степени поддерживает до 65% населения.
Ксенофобия и консерватизм в российском обществе вещи взаимосвязанные.
Почему же при таком большом проценте в парламенте почти не представлены партии, хоть в какой-то степени отражающие подобную идеологию?
При том, что многие в России сочувствуют лозунгам нацистов и в той или иной степени разделяют их убеждения, общество никоим образом не готово участвовать в каких бы то ни было акциях или движениях. Потенциал активности, любого рода консолидации крайне слабый. И это касается не только националистического движения, но также и бюрократического, и либерального — любого. Если акции не поддерживаются государством, то люди не готовы принимать в них участие. Скорее всего, это отголоски советского прошлого, когда всякая самодеятельность и активность жестко подавлялась. Что касается более-менее радикально настроенной части населения, то раньше ее контролировал Жириновский, это был его электорат, но он сегодня, по-моему, уже не является их выразителем.

Каков процент поддержки в обществе акций радикальных националистических группировок — скажем, избиений и убийств гастарбайтеров?
Крайне низкий, порядка 0,5–1% населения. Даже готовых косвенно оправдывать эти акции вредоносностью самих жертв не так уж много (8–10%). В принципе, людям это не нравится. Даже разделяя базовые установки ксенофобов, большинство не одобряет акты откровенного насилия. И уж точно не готово принимать в них участие. При этом на кухне, между собой, эти же люди могут говорить о том, что всех «черных» нужно выслать из российских городов, что власть должна принять самые жесткие меры и т.д. Но они, конечно же, сами не пойдут убивать мигрантов. Максимум, что они могут сделать, — это отдать избирательный голос Жириновскому или партии «Родина». Но большинство проголосует за правящую партию, просто потому что традиционно боится изменений. Как я уже говорил, ксенофобия и консерватизм в российском обществе вещи взаимосвязанные.
Тем не менее, насколько мне известно, в 2000-х зафиксирован довольно сильный рост числа фашистских организаций.
Да, особенно бурный рост шел с 2001 по 2004 гг. Сейчас, из-за кризиса, он несколько приостановился.
Но, казалось бы, в кризис и подавленность, и желание реванша, в том числе национального, должны только усилиться…
В реальный кризис идеологические проблемы отступают на второй план, люди начинают беспокоиться о более практических вещах. Поэтому и ксенофобские настроения немножко слабеют, уступая место более реальным угрозам — например, потери доходов. Тем не менее, хотя точных данных у нас нет, рост численности радикально настроенных молодежных группировок медленно, но верно продолжается. На сегодняшний день, по разным данным, порядка 150 000 человек состоит в того или иного рода нацистских организациях. Поскольку численность каждой организации крайне невелика, в среднем 15–30 человек, то общее число их может быть довольно значительным.
Мне кажется, что искусство должно было бы намного раньше нащупать эти узелки.
У этих группировок есть какой-то политический вес?
Они не пользуются поддержкой у населения, но на политической арене играют свою, довольно интересную роль. Именно они вносят в публичное пространство те идеи, которым общество симпатизирует, но которые в радикальной форме не принимаются. А после публичной дискуссии, когда та или иная идея «разработана», более бюрократизированные, властные партии берут ее на вооружение, «переодевая» ее, придавая ей более умеренную, солидную форму. Например, лозунг «Выслать всех черных из российских городов» — маргинален и неприемлем для российского общества. Но Лужков будет говорить о так называемой «этнической преступности», о необходимости контроля за миграцией в рамках городской политики и т.д. А ФМС примет ряд мер, которые будут усиливать такие особенности аппарата управления, которые присущи только полицейскому государству. То есть фашистские организации являются артикуляторами массовой, но не публичной ксенофобии, спусковым ее механизмом, которая потом облагораживается и звучит из уст серьезных политиков. Хотя, повторюсь, сами по себе эти организации большинство людей отталкивают: люди боятся эксцессов, боятся, что начнутся беспорядки, погромы, что акты насилия примут характер лесного пожара. А когда ксенофобские высказывания артикулируются властью — общество их принимает и приветствует.
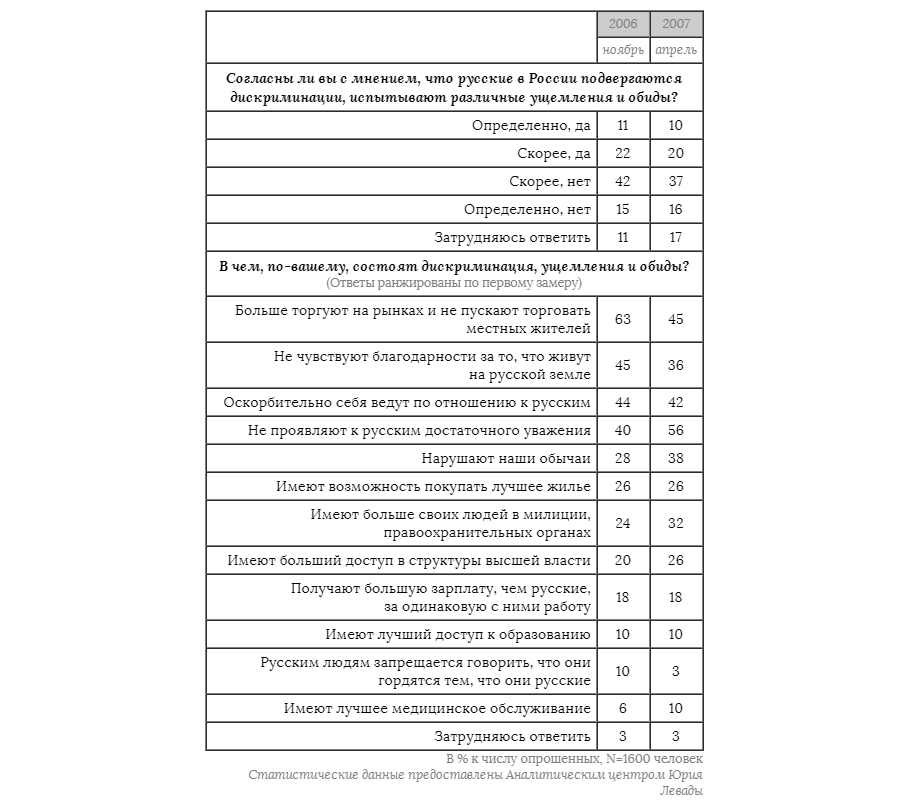
С чем связан рост радикально настроенных националистических группировок именно в 2000-е?
На мой взгляд, он является своеобразной реакцией на беспринципную и во многом лукавую политику властей. С одной стороны, власть говорит о необходимости развития правового общества, демократизации и толерантности, а с другой, заявляет о борьбе с Западом, об отстаивании национальных интересов. Кажется, что она и рада была бы посочувствовать ряду ксенофобских выступлений в силу «социальной близости» этому образу мысли, но при этом сама боится неподконтрольности этой стихии. Вот этот эклектизм и плохо скрываемый цинизм остро чувствуют молодые люди. Они требуют ясности, однозначности, определенности. Одной из форм этой определенности как раз и становятся примитивные формы поведения: избиения гастарбайтеров, нападения на иностранных граждан. Молодые люди находят простейшие способы выплеска агрессии: организоваться, поехать в центр, напасть на кавказца в метро, избить его, заснять это действо на мобильный и выложить в YouTube. Все это приобретает характер групповых ритуалов солидарности. Дальше подобных действий они, как правило, не идут, потому что для более серьезной организации нужна сильная идеология. Конечно, худо-бедно фашистская активность подпитывается нацистской литературой…
То, что тема русского фашизма так поздно пробилась на экран, есть следствие блокировки общественного сознания на всех уровнях.
Но как, на ваш взгляд, в головах у этих молодых людей уживается мифология нации-победителя со свастиками и чтением нацистской литературы?
Боюсь, это именно те головы, в которых безо всякого труда могут уживаться друг с другом самые противоречивые вещи. Для массового сознания требования логики, исключения третьего — не проблема. И потом, для многих субкультур (контркультур, андеграундных группировок) характерно объединение по так называемому «стебовому» признаку. Когда центральные символы и значения основной культуры подвергаются осмеянию, оскорблению, выворачиваются наизнанку. Прежние высокие символы обыгрываются, возникает культура «своих», в которой глумление над тем, что почитается у большинства, становится основой для групповой консолидации, знаком отличия и геройства. Именно так в России появились поклонники Гитлера — как в люмпенизированной, так и в «интеллектуальной» среде.
Как вам кажется, что означает появление русского фашиста в качестве героя на российском экране в 2008 году?
Безусловно, это элемент публичной рефлексии. Есть проблема, которую общество смутно ощущает, поэтому пытается как-то ее осмыслить, систематизировать, вогнать в какие-то рамки. Но я думаю, что попытка эта очень запоздалая. Явление возникло не вчера. Мне кажется, что искусство должно было бы намного раньше нащупать эти узелки. Для меня это опоздание является признаком слабости художественной элиты.
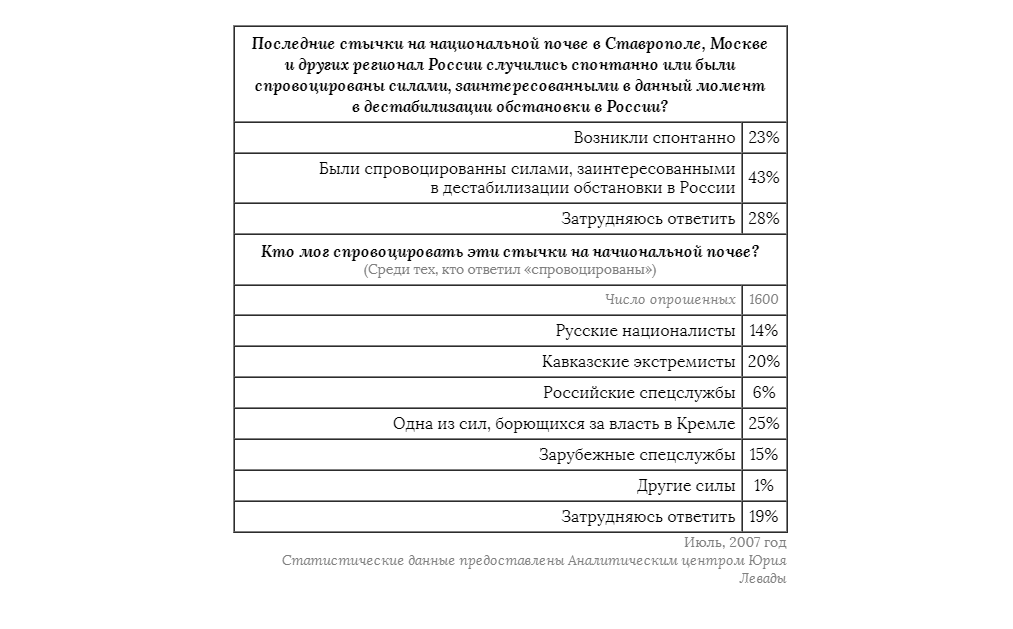
Но был, скажем, фильм «Брат», появившийся в 1997 году, который заявлял эту тему из уст главного героя.
Да, безусловно. В частности, поэтому он и прошел с большим успехом: молодежь опознала в главном герое себя, свои комплексы и чувства. О феномене успеха фашизоидного героя в свое время писал и Даниил Дондурей. Но мне кажется, что усилия понять это явление, предпринятые художником Балабановым, были недостаточно оценены — как тогда, так и теперь. Если выстраивать ретроспективу его фильмов, то мы увидим, что он постоянно думает над природой насилия, над его антропологией в нашем обществе. И не столько любуется им, сколько пытается обнажить и тем самым — понять его внутреннюю механику. Особенно, конечно, в фильме «Груз 200». Самое интересное, что реакция на эти его усилия — в высшей степени неадекватна. Не только публика, но и большая часть критики отторгает его картины. Что, в свою очередь, говорит о неприятии не только обществом, но и элитами попыток осмысления этой темы. То, что тема русского фашизма так поздно пробилась на экран, есть следствие блокировки общественного сознания на всех уровнях. «Не показывайте нам этого, мы не хотим ничего видеть и слышать».
Читайте также
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой








