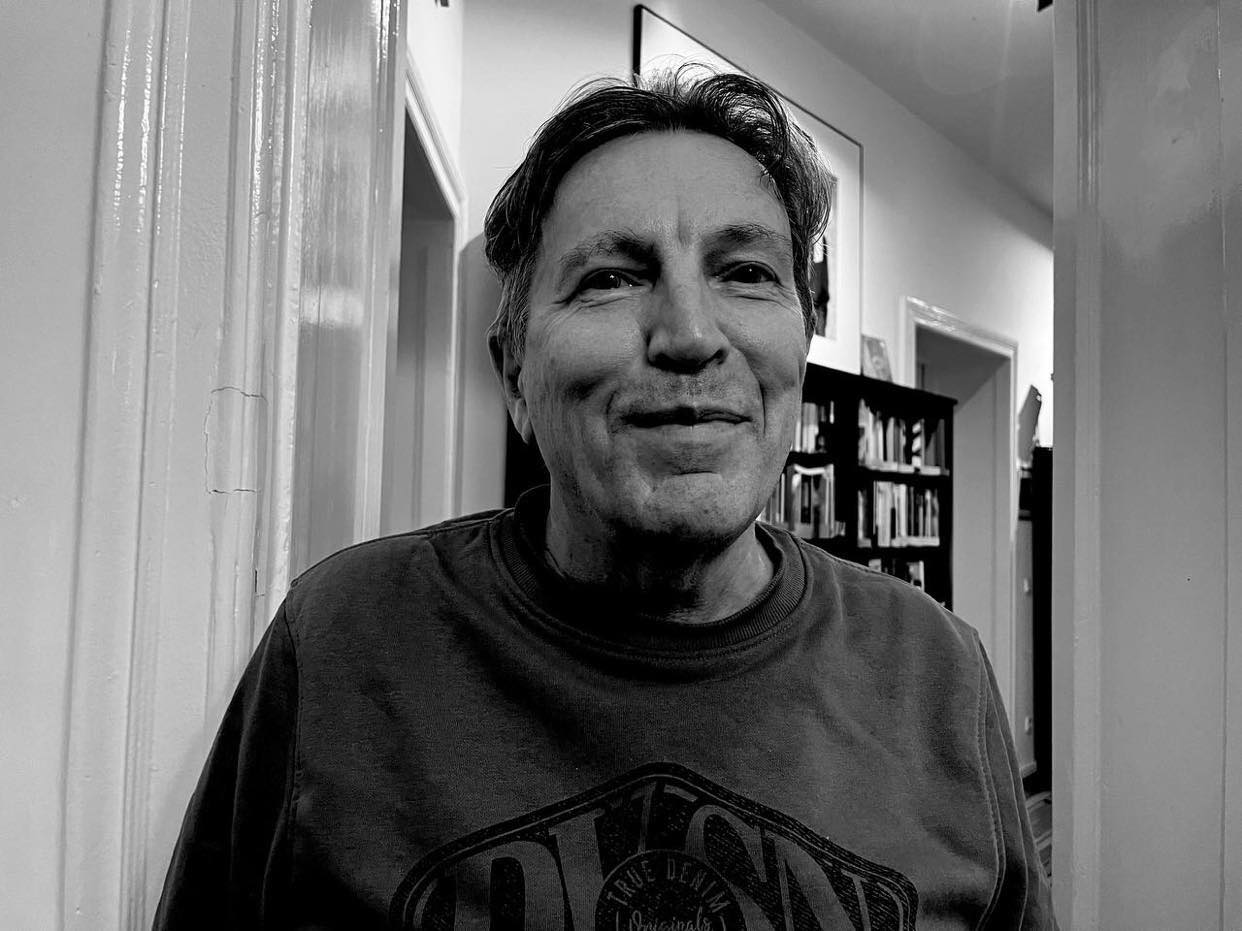Штази слезам не верит
В материале упоминается Ирина Щербакова, в 2025 году внесенная Минюстом РФ в реестр иноагентов. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Судьба этой картины напоминает взрыв бомбы замедленного действия и в какой-то степени может быть сопоставлена с тем, что некогда случилось с другим оскароносным фильмом «Москва слезам не верит». Когда его, еще в свежеиспеченном виде, посмотрели ведущие критики на «Мосфильме», их вывод был однозначен: полный бред, особенно последняя часть с принцем Баталовым, которого золушка Алентовой встречает в электричке. Сказка, загримированная под реальный советский быт, казалась чем-то невозможным: ведь это не мюзикл Пырьева, а как бы реалистическое кино. Потом вдруг на картину свалился «Оскар» — несмотря на то, что конкурентами были шедевры Трюффо и Куросавы, а СССР ввел войска в Афганистан, стал сверхдержавой-изгоем и достиг пика непопулярности.
Американцы сочли «Москву» настоящей экзотикой: особенно их поразило, что советские девушки ищут парней не на дискотеках, а в библиотеках. Но если оставить за скобками момент экзотики, фильм оказался близок заокеанской публике заложенной внутри него структурой голливудской сказки. Которая, в сущности, интернациональна, не меняется со временем и подтверждает убежденность Бертольта Брехта в том, что вульгарный вкус масс имеет гораздо более глубокие корни в психологии восприятия культуры, чем рафинированные пристрастия интеллектуалов. «Москва слезам не верит» прошла по всему миру и только в советском прокате собрала аудиторию в 85 миллионов зрителей, став одним из самых кассовых фильмов всех времен и народов.

«Жизнь других» тоже была сначала проигнорирована интеллектуальной элитой: картину не взяли ни на Берлинский, ни на Каннский фестивали, и международная премьера ее состоялась в Локарно, причем тамошний каталог определил жанр фильма как «гуманистический триллер». Похоже, кураторы фестивалей стеснялись его коммерческой направленности. Но к тому времени картина уже успела стать в Германии рекордсменом по кассовым сборам, событием национального масштаба и визитной карточкой нового немецкого кино. Потом она номинировалась на «Оскар» и выиграла заветную статуэтку, сделав совершенно факультативным вопрос о ее художественных достоинствах и недостатках.
Центральные события фильма разворачиваются в Восточном Берлине зимой 1984–1985 годов: финал основного действия обозначен газетным заголовком, извещающим о приходе к власти Горбачева. Герд Визлер, капитан Штази, получает задание нарыть компромат на писателя и драматурга Георга Дреймана: день и ночь напролет он прослушивает его разговоры с любовницей-актрисой Кристой-Марией и с коллегами-диссидентами. Задание поступило не случайно, и помимо политического в нем есть личный мотив. В Кристу-Марию влюблен высокопоставленный функционер, министр культуры Бруно Хемпф, который принуждает ее к тайным встречам. А вскоре актрису заставляют стучать на писателя. Между тем капитан в наушниках все больше проникается идеями свободолюбивой литературы и фактически встает на сторону своих врагов, жертвуя спецслужбистской карьерой.
После падения стены Дрейман проникает в архивы и узнает о том, кто спас его от расправы. Свой новый роман он посвящает агенту под условным номером — герою невидимого фронта, который так и не познал славы и вынужден при новой власти разносить почту.
От ветеранов бывшей ГДР — только от них — можно было услышать скептические замечания в адрес этого фильма-сказки. Исторической правде с ее конкретными деталями он мало соответствует — чего стоит всесилие министра культуры, который запросто вмешивается в дела Штази и на глазах у своего шофера насилует известную актрису… Да и сама структура, быт и нравы, распределение функций в органах госбезопасности, — все это увидено довольно наивным, посторонним и мало осведомленным взглядом. Как отмечает в журнале «Искусство кино» автор статьи о фильме Ирина Щербакова [в 2025 году признана Минюстом РФ иноагентом], «режим-то в ГДР был пошло мещанским, а вовсе не злодейски-развратным; страной управляли скучные, плохо одетые, в деревянных официальных костюмах, бюрократы». Этот режим был сравнительно вегетарианским, а не людоедским, что делало существование при нем еще более унизительным.
Однако для нового поколения зрителей «обыкновенный фашизм», тупые повседневные ужасы тоталитарного монстра перешли в область мифов и притч, мелодрам и триллеров: так, вероятно, ощущали мир древние греки. Это хорошо почувствовал режиссер с аристократической фамилией Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, родившийся в Кёльне, никогда не живший в ГДР, а учившийся в Оксфорде, Мюнхене и Санкт-Петербурге (кто-то даже предположил, уж не был ли он сам двойным агентом). После «Жизни других» он стал настоящей звездой — как и сыгравшие в фильме актеры: Мартина Гедек, Себастьян Кох и исполнитель роли капитана Ульрих Мюэ (безвременная смерть последнего пресекла его карьеру на самом взлете).

Доннерсмарк именно что рассказывает про «жизнь других». Он, подобно своему герою, оказывается в положении вуайера или фантаста, снабженного машиной времени, имеющего возможность наблюдать уникальную параллельную реальность. Или творить ее по своему разумению. При этом фильм сделан не холодно, не брезгливо, а сострадательно и душевно. Тот факт, что режиссер картины — западный немец, только усиливает ее эффект и превращает в символ объединения немецкой нации на основе способности пережить чужой опыт. До сих пор сотрудники Штази изображались в кино только как прожженные циники (см., например, фильм Маргарете фон Тротта «Другая женщина»), а население ГДР безапелляционно делилось на палачей и жертв. Впервые человек из стана палачей обрел человеческое лицо и стал объектом сострадания, категории, весьма важной для склонных к сентиментальности немцев.
Есть и еще один аспект, ключевой для анализа успеха «Жизни других». Злодеи в фильме (шеф по культуре Хемпф и эмгэбэшник Грубиц) намеренно демонизированы, но не в духе трагической «Гибели богов» Висконти, а, скорее, по образцу «Списка Шиндлера». Это характерно, как и те трудности, с которыми столкнулась кинообщественность при встрече с исторической правдой в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!». Человечество в наши дни испытывает страх перед историей, поэтому Стивен Спилберг снимает о холокосте сентиментальную сказку, а Роберто Бениньи — водевиль «Жизнь прекрасна». Поэтому и Доннерсмарк делает сказочное кино о том времени, которое было еще так недавно. И самое смешное, что поклонники фильма хвалят его за реализм.
Говоря о феномене «Жизни других», трудно обойти по крайней мере еще два знаковых и очень знаменитых только что вышедших фильма, действие которых происходит тоже в середине 1980-х и тоже в период махрового цветения социализма. Это «Груз 200» Алексея Балабанова (сюжет которого датирован тем же «годом Оруэлла») и «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Кристиана
Мунджу. Судьба их сложилась по-разному. Один вызвал скандально-противоречивую реакцию в России и с трудом, с недоверием был воспринят на Западе. Второй был обласкан международными фестивалями и стал визитной карточкой нового румынского кино. Тем не менее: почему 1980-е годы оказались в центре интереса и внимания кинематографистов XXI века? Только ли потому, что прошло нужное количество времени (около двадцати лет) и авторы этих картин созрели для того, чтобы сделать «ретро» из своего детства или юности?
Причина еще и в том, что кинематограф ищет источники инфантильности современного общества. Они — разные на Западе и на Востоке, том, который был за железным занавесом. В благополучной части мира, конечно, не обходилось без проблем, но они не доходили до такой концентрации, потому что не загонялись в бутылку. Для сравнения можно привести фильм Андре Тешине «Свидетели», снятый недавно и тоже посвященный 1980-м годам. Главный ретро сюжет — возникновение эпидемии СПИДа на фоне сексуальной свободы и богемной раскрепощенности. Как только проблема обозначается в обществе, начинается настоящая война (вторая часть фильма Тешине так и называется: «Война») за ее разрешение. Не говоря о том, что все аспекты проблемы публично артикулируются и обсуждаются. Страхи человека в таком обществе носят преимущественно экзистенциальный характер, они находят отражение в философии и авторском творчестве, а масскультура помогает перевести их в плоскость жанра («хоррор»).

В странах коммунистического блока все происходит иначе: болезни общества не называются своими именами, они скрываются и порождают фрустрации, которые, в свою очередь, загоняются в подполье и вылезают в виде социальных фантомов и аллегорий (Дьёрдь Лукач говорил о том, что аллегория — единственная форма существования политического искусства при социализме). В 1980-х годах травматизм раздвоенного сознания достиг в соцстранах кульминации. Именно в эти годы возникает «Покаяние» Тенгиза Абуладзе — кинематографический сон тоталитаризма. Сны, которые снятся режиссерам XXI века, иные, но они вбирают в себя старые страхи. Нелегальный аборт в румынском фильме, инфернальный маньяк-милиционер и совокупление с
трупом погибшего в Афгане солдата в «Грузе 200», сексуальный вуайеризм Штази в «Жизни других», — все это аллегории импотенции и некрофилии власти, не способной к зачатию, продолжению жизни, убивающей в зародыше своих детей и падкой на трупный запах.
Опять же, как и в случае с картиной Владимира Меньшова, успех пришел к «Жизни других» там, где опровергнуты стереотипы ложной актуальности. На волне последних шпионских скандалов история Штази, казалось бы, должна оставаться кладезем все новых и новых разоблачений. Так мыслит стандартный ремесленник — в то время как актуальный тренд найден на другой дороге, где вместо храма стоит памятник перековавшемуся чекисту.
Читайте также
-
Dragon Emperor Online Pokies
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана
-
Берлин-2026 — «Моя жена плачет» Ангелы Шанелек
-
Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни
-
Берлин-2026: Терпение, победившее нетерпимость — «Дао» Алена Гомиса