Инфляция реальности
Что такое «документальное» кино? Прежде чем задавать этот вопрос, кажется, было бы резонно задать другой вопрос: что такое документ?

Что мы предъявляем на контрольно-пропускных пунктах и на вахтах? На вокзалах и в аэропортах? Что мы ищем в карманах и бумажниках, когда слышим этот почему-то всегда зловещий оклик: предъявите документы?! Что написано на этой чертовой бумажке?
Имя. И потом еще год, место рождения. И место пребывания.
На этой «чертовой бумажке» заявлены две фундаментальные категории: время и пространство. И имя, как свидетельство их существования.
Когда милиционер говорит: предъявите документ, мы предъявляем время и место.
И всякий документ предъявляет время и место. Когда археологи выкапывают из-под земли керамический кувшин или ребро мамонта, эти вещи тоже предъявляют не что иное, как время и место. И помятая пластиковая бутылка кока-колы, валяющаяся на асфальте, тоже предъявляет время и место.
Таким образом, документируя что-то, мы устанавливаем время и место. А когда мы пытаемся рассказать не о своем времени и месте, а о другом — скажем, снимаем фильм о Марине Цветаевой — тогда мы должны предъявить ее время и ее место. И если мы этого не сделаем, то не получится картины (картины мира). О таком фильме скажут, что он неправдоподобный, что в нем чувствуется фальшь.
Не всякая реальность, отображенная на пленке, является документальной. Не всякая предъявленная реальность — свидетельство времени. И места. Напротив, большей частью, эти свидетельства оказываются лжесвидетельствами. Таким образом, в большинстве случаев, кино является не «документальным», а «лжедокументальным».
И тут второй главный вопрос: «о чем свидетельствует свидетель?» Он отбирает, он подает знаки времени. Он ищет и находит подлинные места. Или не находит, и тогда свидетельствует об их отсутствии.
Не всякая перенесенная на пленку реальность представляет собой документ. Прежде чем приступить к документированию, нужно найти реальность, которая заключает в себе знаки времени. Легко сказать — «нужно найти»…

Вопрос ставится так: что отображать? О чем свидетельствовать?
А если свидетельствовать на Высшем суде?
Достоевский хотел свидетельствовать о «Дон Кихоте». Он думал, что одна эта книжка может явиться оправданием человека. А если бы мы все могли защититься этой замечательной книжкой, получили бы мы ответ на вопрос: что такое человек?
А если вопрос не задан? Если мы вообще живем в таком «времени», когда не ставятся подобные вопросы?
У дирижера Романа Кофмана есть такие слова: «Если вам повстречается пришелец из других миров, не признавайтесь, что вы из человечества». Может быть, и в самом деле замолкнуть, спрятаться и исчезнуть. Может быть, и в самом деле стоит прекратить документировать, свидетельствовать.
Но есть иные свидетельства. Примо Леви был свидетелем Освенцима. «Я не собирался самоустраняться, не собирался уничтожать свидетеля, которым могу стать». Он должен был выжить, чтобы рассказать. Он должен был свидетельствовать «о важном».
А если нет этого «важного»? Если все второстепенно, незначительно? Тогда что? Мы должны свидетельствовать о незначительном?

В основе всего лежит документ. И всякое подлинное произведение искусства -это документальное произведение, вне зависимости от того отображает оно реальность «реалистично» или пользуется иными — абстрактными, неузнаваемыми, неконвенциональными — знаками и символами. Если так, то «Черный квадрат» Малевича и писсуар Дюшана являются документальными произведениями. В них задокументированы время и место.
И что же происходит в нашем времени? Что является документальным в нашем времени?
Что является подлинным в нашем месте? Нет ни одного мало-мальски серьезного произведения о концлагерях, о массовом терроре, репрессиях и ГУЛАГе. Мы еще не свидетельствовали о том времени и месте, а уже внезапно оказались, очнулись в другом другой реальности. И что же нам делать с этим новым временем? С этой реальностью?
Что-то в ней испорчено, в этой «реальности». Что-то поломано. А следовательно что-то испорчено в «словах» — в языке, на котором мы говорим. Все дело в «реальности», а не в кино. Испорченность кино — это только следствие. Ведь даже когда мы искренны, когда мы что-то чувствуем, нам приходится обращаться к «словам», чтобы рассказать о том, что мы чувствуем. А если в «словах» что-то сломано, у нас ничего не выходит, мы фальшивим, ибо что-то испорчено в самом языке. Не хотели фальшивить — но фальшивим. Имели побуждение говорить правду — но лжем. Когда испорчен «порядок слов», сами «слова», что-то портится и в образах (речь здесь снова о реальности, а не о кино). Инфлированы (то есть обесценены) все первичные образы-маски: ученый, шлюха, полицейский, преступник, студент, бизнесмен, нищий… И поэтому когда до них доходит дело, появляется чудовищная неподлинность, которой заполнена и наша реальность, и наше кино. Есть замечательная кинокартина Ричарда Линклейтера, где Жюли Делпи и Итан Хоук ходят по Парижу и говорят о несусветных вещах: об экологии, о любви, о браке. Они интеллектуальны, образованны, и при этом не старомодны. Но что если попробовать сделать такое кино о наших студентах-интеллектуалах? Попробовать заставить их говорить об экологии и любви. Получится чудовищно и фальшиво.Что-то поломано в реальности. Она заведомо неподлинна.
Если мы отвлечемся от «слов», и начнем говорить об образах, лицах, то будем вынуждены констатировать, что в нашем кино — все лица захватаны. А ведь лицо в кино имеет очень большое значение. Страшное дело, в нашем кино почти нет «лиц», одни сплошные общие места. Лица без выражения. Такая семантическая гладь. А что такое лицо? Это место смеха, место скорби, место плача. А теперь представьте себе, что смех, скорбь, плач лишились своего места. Эти первостепенные чувства, эти стихии возникают на захватанных лицах наших актеров и от этого обесцениваются вдвойне. И речь здесь не о технических моментах, скажем о частом использовании лица одного и того же актера. Нет, даже когда появляется лицо совершенно новое, оно несет в себе уже знакомый и успевший обесцениться набор мимических жестов.
Итак, инфлированы две важнейшие составляющие кино — язык и лицо.
Поиск неинфлированных, подлинных зон реальности — вот чем осознанно или нет заняты те, кто пытается сегодня делать кино. Говорят, что начался новый виток увлечения «чернухой». Но обращение к «низким» сферам происходит не из особой какой-то любви к ним, а из особой чувствительности к языку. Часто даже бывает, что сам язык, занимаясь беспощадной селекцией, отбирает для себя такие подлинные точки, и произведения вроде бы лишенные таланта, вдруг оказываются по-настоящему значимыми, ибо они транслируют время. Они, возможно, не отвечают ни одному критерию, по которым судят произведение искусства, и все-таки в них таятся «силы». Так бывает в пустые времена.
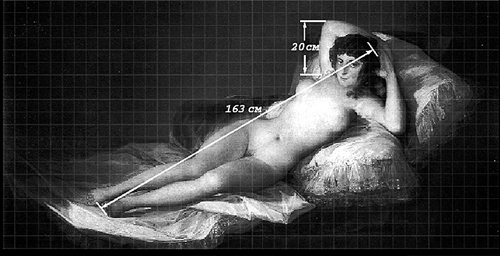
Сегодня высокие сферы реальности инфлированы. Горние символы обесценены. Они воспроизводят сами себя и порождают ложь. А когда с языком происходят подобные метаморфозы, нужно менять точку зрения, перенастраивать оптику. Так, в поле зрения кино появились иные герои, прежде не замеченные искусством: отморозки, люмпены… Болевые точки реальности сместились, мигрировали, и нужно быть чувствительными к этим миграциям. Но нам почему-то все еще трудно расстаться с закостенелыми лицами и застывшим языком. Так, Валери писал что, при несчастных случаях люди порой погибают из-за того, что не в силах расстаться с зонтиком.
Кино обратилось к низким сферам, и на поверхность стали выплывать совершенно неописуемые лица. Как оказалось, единственный, более-менее сохранившийся образ-маска это — отморозок. Человек не некультурный, а внекультурный. Своеобразный монстр, который, однако, и тосклив и сентиментален, и как это ни странно, преимущественно жив. Его главная характеристика — бесцеремонность, ибо всякая церемония — это продукт культуры. Этот человек проник и в российский кинематограф — во все более или менее вменяемые картины последних лет. Он же ютится в картинах Бруно Дюмона, Михаэля Ханеке, Ульриха Зайдля, Ким Ки-Дука, и даже Ларса фон Триера. Его лицо еще не захватано, еще не погрязло в болоте автоматически воспроизводимых значений, скрывающих от нас чувство и смысл.
Страшные дела. Не подступиться к тому, что можно почувствовать, чему можно сопереживать. За сто шагов уже доносится смрад и трупный запах.
Что документировать, что снимать? О чем?
У маркиза де Сада есть такое изобретение — тайная комната. В эту чудную комнату либертен заходит наедине со своей жертвой, а выходит обезумевшим. Эта комната находится не на сцене, но рядом со сценой, помимо сцены. На сцене происходят события, она — предмет повествования, рассказа, она видима, описуема. Тайная же комната невидима, она неописуема. Она (комната) изменяет язык, вырывает его из сферы человеческого, обращает в крик и лишает всех знаков и символов кроме одного — животного знака. Эта комната редуцирует язык до реакции живого. Так язык перестает производить смыслы и символы и становится реактивным. Входящий в эту комнату предчувствует, что внутри личности уже находиться невозможно, ибо что-то в ней устранено, чего-то в ней не хватает.
В одном из писем Шостакович пишет: «очень утомляет изображение на рояле страстей человеческих». Так каких же? Нечеловеческих. Чтобы невозможно было дублировать и воспроизвести.
Наделяя нечто статусом документа, мы узакониваем это явление. Делаем его легитимным, существующим. Что такое культура? Культура — это механизм, который узаконивает, укореняет неосязаемые, умозрительные символы. Символы, существование которых само собой не разумеется. В нашем пространстве такого механизма нет. Есть факты, культурные явления, а механизма нет. Есть, скажем, Мандельштам, или Платонов, или Пушкин, но знаки ими созданные не превращаются в столбцы, не перевариваются культурой, не становятся достоянием сознания. Мы можем ориентироваться лишь до тех пор, пока нам еще ясно, где находится север и где юг, пока есть некие отметины, точки отсчета для наших действий и поступков. Был человек Мандельштам, и в 1933 году он написал стихотворение про Сталина. «…Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища…». Пастернак сказал об этом стихотворении, что это не литературный факт, но акт самоубийства. Что может побудить «человека» на такой поступок? В этом поступке ведь нет ни малейшей доли прагматизма. Этот поступок не имеет цели. Человек, совершающий его ничего не добивается, только обрекает себя на гибель. И все-таки он добивается многого. Он создает прецедент инакомыслия, прецедент культуры. Здесь иная, дальновидная прагматика. Ради этого эфемерного прецедента Мандельштам жертвует жизнью. И нельзя сказать, что он идет на это осознанно. Нет, но протест в нем оказывается сильнее здравомыслия. Культура создается во многом тогда, когда протестное сознание преобладает над здравомыслием.
В нашем пространстве есть много таких культурных фактов, а культуры нет. Потому что эти факты не перевариваются, не переплавляются в опыт. Не превращаются в знаки, которые должны встраиваться в механизм культуры, чтобы затем уже воссоздаваться автоматически. Сегодня мы живем в ситуации, в которой Мандельштама будто бы и не было. Не было Хлебникова, Белого, Платонова. Были только Плеханов и Луначарский. Что-то испорчено в реальности. Высокие сферы инфлированы. Дело в том, что горний ареал — умозрителен, а не реален. Горние символы — нежные, хрупкие, они не разумеются сами собой и требуют усилия. Горние символы обретают хоть какую-то степень реальности только тогда, когда есть возможность их включения в механизм культуры.
В нашем пространстве этого не происходит, и единственны достоверным объектом реальности становится «отморозок». Ведь что такое «отморозок»? Это не рабочий, не крестьянин, не интеллигент, не чиновник, не торговец, не ученый, не служащий. Он и не то, что принято называть «простой человек». Напротив, простота — именно то качество, которое им безвозвратно и тотально утрачено.
И, наверное, это страшно, когда достаточной степенью достоверности обладает только «отморозок». Что в поисках подлинности кинематографист набредает именно на него. Студенты, геологи, поэты и даже шлюхи лишены возможности быть реальными. Начисто изничтожен городской тип. Город как феномен выкорчеван из реальности. Парацельс в своей книге «О нимфах, сильфах, гномах, и саламандрах» упоминает о бесплотных существах, находящихся на границе живого и неживого. Таковыми, наверное, являются в нашем пространстве все городские, более или менее интеллектуальные типы. Их невозможно типологически описать. А когда мы беремся за их описание, на нас скалится все тот же «отморозок», потомок Свидригайлова, которого Чеслав Милош назвал меланхолическим обитателем ада.
Он забрался в новую драму, заселился в новую литературу. Меланхоличный и чувственный, он в одиночестве противостоит утилитарной реальности, этому глобальному супермаркету.
Это противление порой даже создает иллюзию духовности. Ибо в оппозиции «бездуховное — духовное», первое место занимает «супермаркет», и по логике вещей, второе должен занимать — «отморозок», который увернулся-таки от интенции массовой культуры, занимающейся порождением и утверждением потребителей. Этот духовный «отморозок», причмокивает и скалится, ибо он занял весьма почетное место. Он единственный может не считаться с миром потребления, не раболепствовать перед ним, ибо он непотребим. Он единственный в этом мире, кто не занят боязливым сохранением себя. Порой в нем даже слышны отголоски иных, героических эпох. Он не участвует в этой нескончаемой гонке за успех. Он выпал из этого мира и обрел подлинность.
Так что же нам предъявить как документ? Какое время и место? О чем свидетельствовать на Высшем суде?
Конечно, мы бы тоже могли предъявить «Дон Кихота», но ведь нам никто не поверит.
Или есть еще один вариант — стушеваться, и, следуя совету Романа Кофмана, не признаваться, что мы из человечества.




