В заложниках — авторы, герои и зрители…
Из интервью Сергея Дворцевого, Александра Расторгуева, Виктора Косаковского, Юриса Подниекса, Сергея Мирошниченко, Герца Франка, Виталия Манского, Сергея Скворцова.
В 2023-м году один из героев этого материала, Виталий Манский, был признан Минюстом РФ иностранным агентом. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Сергей Дворцевой:
СЕАНС — 25/26
[…] Снимая настоящее кино, автор должен вторгнуться в реальную драму людей. А кто ты такой, чтобы это делать? Ты не палач. Не хирург. Хирург режет для того, чтобы зашить, вылечить человека. А кино? Мы же не зашиваем, мы обнажаем проблему. Конечно, мы делаем это для чего-то, мы апеллируем к душе. Но это очень сложно — из живой крови создавать произведение искусства. Поэтому, с одной стороны, документальное кино имеет право быть, а с другой — не имеет права быть. Интереснее и важнее всего найти грань. Этическую грань. Или грань на стыке игрового и документального кино .
Получается, что эстетика даже высшего пилотажа упирается в этику?
В документальном кино — на 100%.
В документальном кино это может почувствовать только автор, изнутри?
Каждый сам определяет эту границу. Иногда говорят: «Ну, можно же обходиться без всего этого». Нельзя, потому что этого требует профессия. На мой взгляд, ты либо снимаешь кино и в соответствии с этим устраиваешь свою жизнь, свою психику, учишься говорить с людьми на таком языке, чтобы тебя понимали, либо уходишь из профессии. Чтобы быть хирургом, надо научиться резать.
Сергей Дворцевой: «Из живой крови создать произведение искусства»
Беседу вела Татьяна Москвина-Ященко
СК-Новости. 2001. № 24–25 (108–109). 12 октября. С. 9.

Александр Расторгуев:
А не приходило вам в голову, что, снимая, вы вторгаетесь в чужую жизнь, меняете ее?
Здесь уже мера твоей открытости решает этичность этого вопроса. Например, если ты приходишь к ним в барак, воняешь хорошими духами, смотришь на них через камеру, затем уходишь есть дежурный гамбургер, если ты так брезгливо относишься к ним, тогда — да, ты грубо вторгаешься в их жизнь. У меня был случай, когда я набил морду своему герою, он меня жутко вывел. И когда я и он, как два простых мужика, в реальной жизни столкнулись, я вдруг понял, что он в отношении меня может все, а я — нет. Когда я вошел с камерой в его жизнь, я уже взял на себя ответственность.
Иван Голунов. Чтоб за нами так следили!
Новая газета. 2001. № 4 (22 января).
Документальное кино — поэтический террористический акт задержания, взятия и удержания в заложниках героев и зрителей. Если в художнике находится какая-то точка наблюдения, то он, как занемевший киллер, лежит и не знает: хорошо или плохо убивать этого человека, будут по нему плакать дети… На самом деле понятно, что камера ломает героя. Проблема нравственная состоит в том, чтобы сохранить свою точку зрения и при этом оставить в кадре точку зрения героя на события, которые стали фильмом.
Авижас Анжелика. Кино без дублей
RELGA. 2005. 5 марта. № 3.
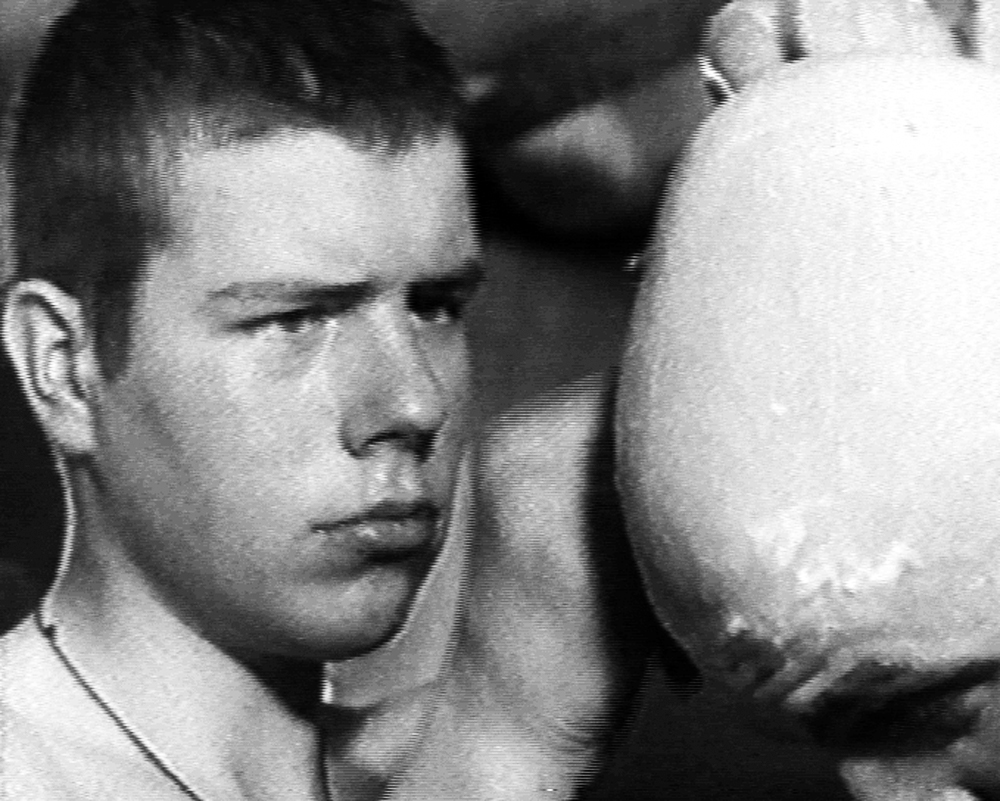
Виктор Косаковский:
[…] Я же не думал, что буду снимать смерть собственной матери, но так случилось. И я сказал ребятам: нажать на кнопку… Ты можешь сказать, что я безнравственный человек, но это профессия. Вот ты снимаешь катастрофу, а она не такая страшная, как нужно для фильма… То есть чем хуже — тем тебе лучше. Хороший человек режиссером не будет. Он будет священником, учителем, няней, я не знаю кем… А зритель что, безгрешен? Одно дело — то, что ты можешь снять, другое дело — то, что согласен увидеть тот, кто снимался. И третье — что согласен увидеть зритель. Например, ты открываешь дверь и видишь, что люди там занимаются любовью. Ты извинишься и закроешь дверь. А когда это показывают в кино — ты не отворачиваешься. Почему же ты позволяешь себе смотреть на половой акт на экране и не позволяешь себе смотреть на него в реальной жизни? Что с тобой происходит? Или ты пьешь чай и видишь по телевизору место, где разбился самолет. Ты будешь пить чай дальше… Может, немножко поперхнешься, но будешь пить чай. А если бы ты видел это своими глазами, ты бы после этого чай не пил.
Виктор Косаковский: Хороший человек режиссером не будет
Беседовал Виктор Матизен
Вечерний клуб. 1997. № 48 (18–24 декабря). С. 4.

Юрис Подниекс:
С камерой вообще все иначе. С камерой я могу всё… Она как бы отгораживает меня, дает буферную зону моего нейтралитета. Она меня расслабляет. Я снимал все: и смерть, и рождение, и аварию, когда женщина потеряла оба глаза. Она вылетела через переднее стекло машины. Я все это снял, очень хладнокровно и спокойно, а потом не мог смотреть на экране. Камера тебя как бы отодвигает. Ты не сам… Это не ты, просто глаз, и ничто другое. И потому я смог снять умирающего Андриса (оператора А. Слапиньша. — А. Д.)…
Подниекс Юрис. Язык судьбы
Интервью вела Ася Колодижнер в 1992 г.
Искусство кино. 1993. № 2. С. 41.

Сергей Мирошниченко:
Документальное кино — это, собственно, и есть прежде всего этика. Оно рассказывает о реальных людях. К тому же оно очень близко к политике, а быть нравственным и порядочным человеком в политике почти невозможно. Режиссеру-документалисту трудно избежать ангажированности теми или иными политическими силами, очевидной политической пристрастности.
Сергей Мирошниченко: Таинство документа
Интервью ведет Зоя Кошелева
Искусство кино. 2002. № 3. С. 118.

Герц Франк:
Могли ли бы вы как юрист по образованию составить юридический, он же моральный, кодекс документалиста? Что в этой профессии недопустимо?
Недопустимо унижать и оскорблять людей. Каков бы человек ни был, документалист не судья, он может лишь свидетельствовать то, что он видел. Но он не имеет права стать на чью-либо сторону. Быть на чьей-либо стороне — это уже совсем иная профессия. И свидетельствовать документалист должен так, чтобы люди и через двадцать, и через тридцать лет верили, что это правда. Может быть, и не вся правда, но это документ, из которого мы можем понять, каким было время. Если же документальный материал окрашен неким политическим лозунгом, он, конечно, тоже свидетельство времени, но свидетельство того, в какие цвета красят реальность. Дзига Вертов в своих «Трех песнях о Ленине» и «Колыбельной» был слишком политизирован. Он воспевал Ленина, воспевал Сталина. Причем Ленина воспевал уже тогда, когда нужно было воспевать Сталина, а Сталина воспевал так, как Сталину было не нужно. […] Чистый документ, а вокруг фантасмагория. Так где настоящий Вертов? Может быть, он зрителю показывает, что вот он — здесь, а во всем остальном — не он? Не знаю. И мы никогда это не узнаем. Документалист ни в коем случае не имеет права использовать людей лишь как объект, призванный демонстрировать, как хорошо режиссер умеет делать кино. К сожалению, это сегодня слишком часто происходит.
Снимая «Высший суд», я не испытывал никаких симпатий к своему герою. Я лишь свидетельствовал то, как человек кается в совершенном преступлении. Поэтому фильм жив и по сей день. […] Я его не оправдывал, но, безусловно, сочувствовал его страданиям и дал ему возможность высказаться перед смертью.
Так что главное в этическом кодексе документалиста: не использовать камеру во вред человеку, не оскорблять его достоинство. И еще нельзя подсматривать — надо смотреть. Смотреть и видеть! Глазами и сердцем.
Герц Франк: Смотреть и видеть
Беседу ведет и комментирует Александр Липков
Искусство кино. 2004. № 3.

Виталий Манский:
[…] Как вы думаете: нужно или нет снимать репортажи с мест трагедий в натуральных подробностях — с трупами и прочими ужасами?
Безусловно, нужно! Хотя бы потому, что эти кадры являются правдивой летописью человечества. Мы должны знать, кем являемся на самом деле. А показывать их или нет в репортаже — это проблема выпускающего редактора и продюсера новостей. Но на человеке, снимающем такие кадры, независимо от того, вольный ли он стрингер или ангажированный журналист, — большая ответственность: как вести себя в экстремальных обстоятельствах.
Вы имеете в виду проблему морального выбора: снимать или помогать пострадавшему?
Именно это. Я как-то снимал фильм с одним оператором об очень известном человеке. Вышел из комнаты, а в этот момент герою фильма стало плохо с сердцем. Оператор выключил камеру и побежал звонить в «скорую», хотя в комнате было еще человек десять, включая медика. Да и прибежал он к телефону пятым. Я расстался с этим оператором, потому что он — не репортер, не документалист, не профессионал. Если пожар, наводнение, нападение и при этом есть хотя бы еще три-четыре мужика, ты должен снимать. Но если никого — вот тогда бросай камеру и помогай!
Если бы вы владели частным каналом, разрешили бы показывать на экране человеческие трагедии с убийствами, катастрофами, трупами?
Не стал бы этого делать. Показал бы интервью с человеком — очевидцем события. Плюс комментарии, если возможно. Смотреть подробно на то, как, например, недавно в Мексике машина сбила группу детей, невозможно даже при стальных нервах.
Но не надо смешивать оперативный репортаж и документальное кино. Если документальная картина исследует общественно-важную проблему и в ней смонтированы запредельные трагические кадры, органично вписывающиеся в сюжет, не стоит их вырезать.
Американские каналы 11 сентября не показывали крупных планов гибели людей сознательно? Они сделали свой этический, моральный выбор?
Думаю, что в момент трагедии у телевизионщиков было шоковое состояние от масштаба трагедии, который, извините за цинизм, в то же время их завораживал. Все показывали в спешке, по горячим следам. Они давали общие планы Бруклина, Северного Манхэттена, держали панорамную «картинку», потому что никто не знал, будут ли третий самолет и новые взрывы. А из-за крупных планов могли бы прозевать новую атаку.
Хотя, возможно, крупные планы технически было трудно «схватить». Ведь только при наличии или стационарной камеры, или спецподключения, или «тарелки» можно выдавать «картинку» в прямой эфир. Выпрыгивающих из окон небоскребов людей снимали ручными камерами. Кстати, как только начали показывать повторы репортажей, эти кадры включили в эфир.
А если я как телезритель желаю знать, что происходило, но не хочу видеть кровь?
Человек всегда сам выбирает, какую книгу ему читать — Библию, «Майн Кампф» или порносборник. […] Канал — это узкая аудиторная группа. И человек, выбирая свой способ получения информации, должен быть убежден, что огражден от того, чего не хочет видеть.
Виталий Манский: камера в глазу
Беседовала Людмила Столяренко. 1 августа.
Интервью размещено на сайте vertov.ru.

Сергей Скворцов:
[…] А материал всегда умнее. И вот если ты действительно решил разобраться, то назови это верно: посмеяться над собой, самым умным, вышедшим на объект. Вот это, в конечном итоге, и есть свобода. Понимаешь? Свобода от себя того. Свобода движения вперед, свобода быть человеком, то есть быть процессом.
[…] Поколение наших учителей пыталось усидеть на двух стульях: с одной стороны, им хотелось превратить документальное кино в искусство, в противоположность пропаганде, с другой — они хотели, чтобы это была только правда жизни, все как есть. Но искусство — это способ непрямого говорения, а они пытались убедить себя и доказать зрителю, что вот это и есть жизнь. Мы же снимаем скрытой камерой, — как бы оправдывались они. Но при этом занимались эстетизированием: ракурс, крупность, свет, монтаж.
Сергей Скворцов. Два интервью.
СПб.: Северо-Запад, 2002. С. 11, 16.
Дорога, по которой куда-то можно идти, на которой можно заблудиться и прочее, прочее — превращается в карту проезда транспорта. Здесь проезд запрещен, а здесь это, а здесь… Самое страшное — знаковая система. Кстати говоря, чувство у человека может возникнуть только тогда, когда внутри него оно заложено. Заложено ли детонатором, то ли той системой нервов, где есть болевая точка, то ли каким-то воспоминанием, то ли еще чем-то.
Сергей Скворцов. Два интервью.
[СПб.: Северо-Запад, 2002.] С. 56.



