Море по колено
Как и в чем именно романы об Эрасте Фандорине бросили вызов русской литературе? О текстах и подтекстах размышляет Никита Елисеев.
В материале упоминается Борис Акунин (настоящее имя: Григорий Чхартишвили), внесенный в реестр иностранных агентов, а также реестр экстремистов и террористов. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Это — образ его прозы. Берешь в руки, читаешь, батюшки! Сколь широк охват — море. Но впоследствии соображаешь: а моря-то по колено. Сиваш… вброд перейти можно.
СЕАНС — 23/24
Любимая игра — цитатная. И тут уж — виртуоз! Он вообще загадочен, не столько автор детективов, сколько сам — герой детектива. Какой длинный язык он показал всем своим поклонникам, назвавшись Акуниным, а потом разъяснив: мол, по-японски «акуна» значит «очень нехороший человек». Вся Москва едет с книжками на эскалаторе, вперилась в текст, а на обложках книжек — «сволочь», «сволочь», «сволочь». «Да, — мечтательно сказал Эраст Петрович, — вот это — жест…»
И то правда: жальче всего в «Смерти Ахиллеса» безжалостного киллера Ахимаса, а в дневнике маньяка Соцкого вдруг проглядывает, проскваживает цитатка из дневника Толстого; зато на турецком шпионе Гюставе Эрве, обаятельном и отважном, оказываются рыжие сапоги великого провокатора Хулио Хуренито — разве не так?
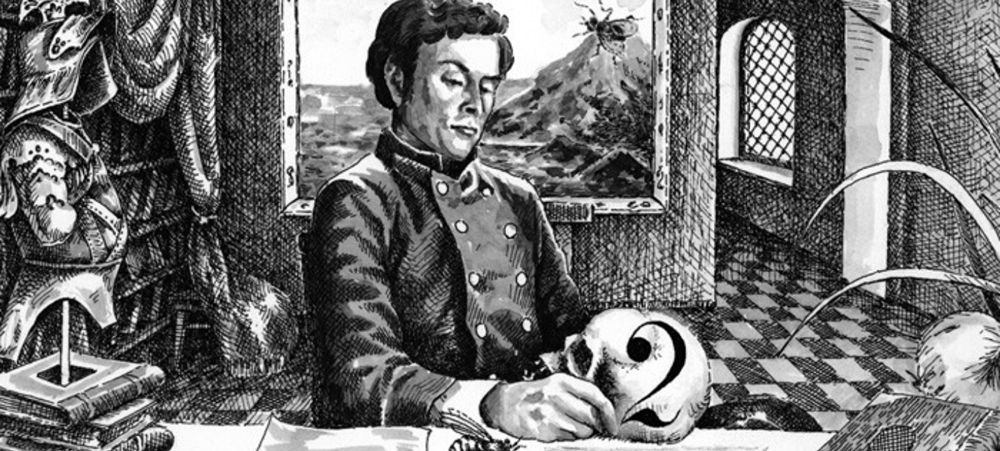
Учитесь писать детективы или… кончайте с собой…
Наверное, так, поскольку вся проза Бориса Акунина — горячий осознанный вызов русской литературе больших идей: «А вот, мол, и плохо, что не было у нас развлекательной беллетристики, как во Франции или в Англии; была бы в России умная интеллигентная развлекуха и не было бы у нас социальных взрывов, всемирно-исторических катаклизмов…» То есть нельзя сказать, что в России вовсе не было развлекательной литературы. Просто она сразу отшибалась за пределы уважаемой, хорошо оплачиваемой литературы. То, что это так, а не иначе, доказывает пример писателя-профессионала — Антона Чехова. Если бы Чехову так же платили за детективы, как и за психологическую прозу; за веселые юморески так же, как за пьесы с подтекстом, то он бы недолго колебался. Он же написал блистательный по задумке детектив «Драма на охоте». Немного подкачало исполнение. Ничего, научился бы. Но читающей публике, публике, платящей деньги за книжки, этого было не нужно. Поэтому вместо детективов вроде «Драмы на охоте» Чехов стал писать повести вроде «Дамы с собачкой».
«А вот и зря», — словно бы говорит Б. Акунин.
Издевательский сиквел чеховской «Чайки» как раз и связан с этим «а вот и зря». Мол, надо было не мерлихлюндию про творчество, а залихватский детектив про то, кто же Костю Треплева кокнул. Правда, здесь получилась… эээ… некая запиндя. Чеховская «Чайка» и «Чайка» Б. Акунина — замечательные примеры двух разных литератур. Только что были живые странные люди, которые у Акунина моментально превратились в кукол — в мультипликационных персонажей или в героев капустника. Но с «Чайкой» такие номера проходят. Вообще, с пьесами такие фокусы получаются. Каждому артисту хочется сыграть главную роль. И Б. Акунин в своей «Чайке» благородно предоставляет каждому артисту такую возможность. Это — славно. Не так славна, конечно, неприязнь к Чехову, но ведь она — объяснима. Чехов из газетно-журнальной грязи поднялся в классики; из такой грязи в такие князья… Из развлекательных «Осколков» и «Будильника» да прямиком в вечность. А Григорий Чхартишвили? Со всеми своими знаниями, и немалыми, со всем своим умом, и немалым — куда? В нынешние «Осколки» и «Будильник»? А, может быть, другого хода у литературы, у «прекрасной словесности», belles lettres, сейчас просто нет? Не от «Драмы на охоте» к «Даме с собачкой», а от «Легенды Золотого Храма» к «Декоратору» или, там, от «Факультета ненужных вещей» к «Шпионскому детективу», к «Алтын Толобасу»…
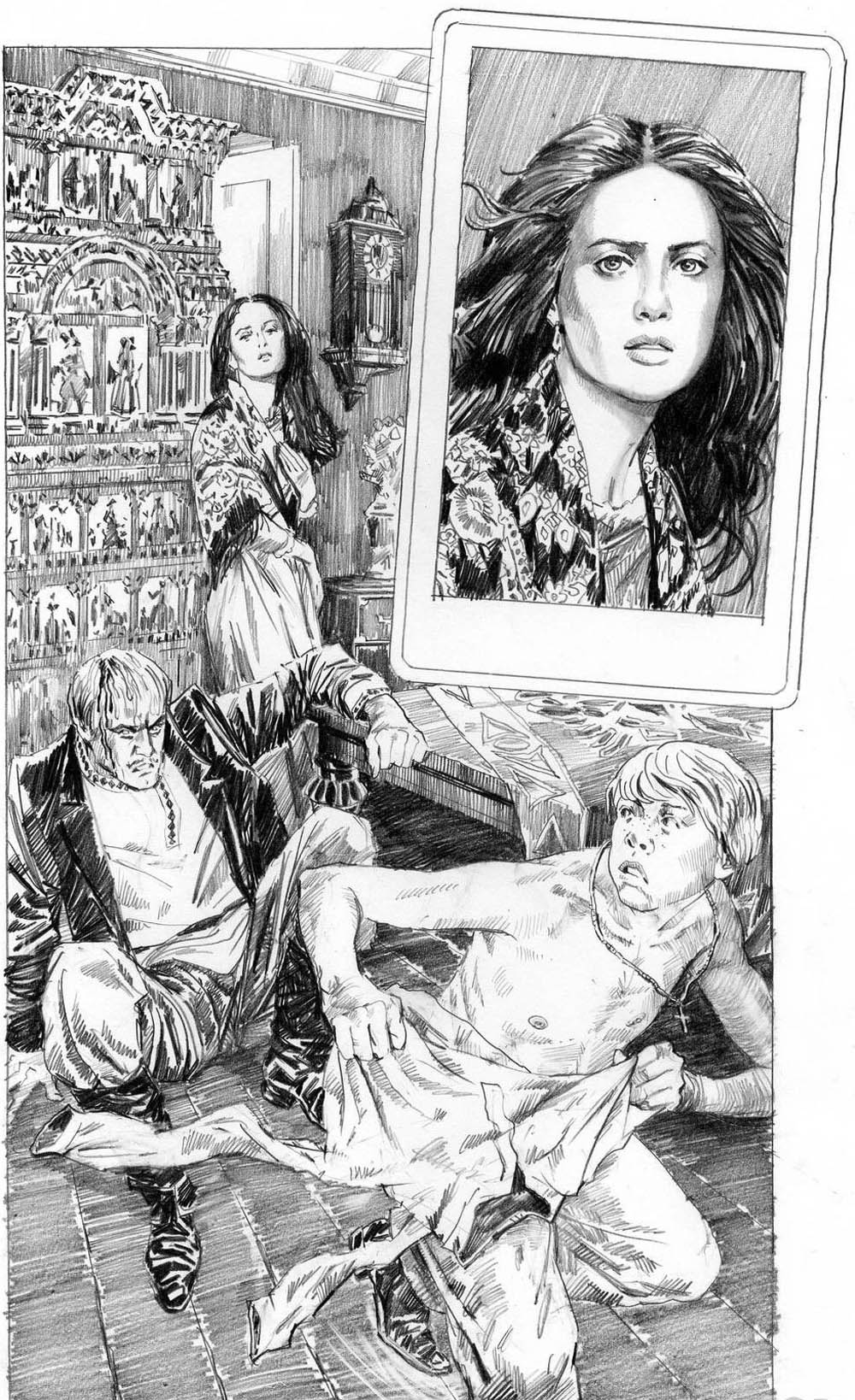
Давняя статья и первый бестселлер
О том (или почти о том) написал Григорий Чхартишвили в давней своей, предваряющей появление Акунина, статье: «Похвала равнодушию, или Приятные рассуждения о будущем литературы». Она была напечатана в 1997 году в четвертом номере журнала «Знамя» — за два года до первого бестселлера Чхартишвили «Писатель и самоубийство». Два этих текста — статья и книга — слипаются в одно житейское, циничное высказывание: аут, ребята, серьезные писатели, ваше время — вышло! Учитесь писать детективы или… кончайте с собой…
Скажем еще заковыристей: «Похвала равнодушию…», «Писатель и самоубийство», а также первый роман Б. Акунина «Азазель» складываются в триаду по Гегелю. Тезис: серьезная роль серьезной литературы возможна только в больном обществе, а коли литература отодвигается в сторону-сторонку — это означает, что общество осовременилось, модернизировалось. Не расстраиваться надо по этому поводу писателям, а радоваться и учиться развлекать публику. Не нравится развлекать? Противно? Вот те раз! Романы про сталеваров было писать не противно, а детективы нежную писательскую душу корежат, нуу… (Любопытно, что в 1914 году Томас Манн считал признаком цивилизованности общества, его европеистости, западничества — литературоцентризм. И — наоборот, напротив — равнодушие к литературе называл признаком варварства или свойством настоящей глубинной культуры, которая — по тогдашнему мнению тогдашнего Томаса Манна — была куда ближе к здоровому варварству, чем к поверхностной, лишенной истинной божественной глубины цивилизации…) Это — в скобках. Перейдем к антитезису, к «Писателю и самоубийству». Не называемая, но подспудная тема этой книжки: уж коли Вы такой серьезный-рассерьезный писатель, то должны знать, что играете со смертью, что она вовсе от Вас недалеко; так что будьте к этой встрече — готовы. Всегда готовы. И синтез — первый детектив из фандоринской серии «Азазель», развлекательный, полупародийный роман про… самоубийц.
Детектив или не детектив
Надобно признать все же, что детективы Б. Акунина не совсем детективы, или совсем не детективы. Начнем с самого простого отличия, хотя оно и не бросается в глаза. Детектив всегда имеет (да и имел) дело с актуальностью. Акунин же пишет об умершей актуальности. Честертон или Чандлер, Рекс Стаут или Конан Дойль, Дороти Сейерс или Агата Кристи спешили откликнуться на самые недавние события. Помните, в одном из детективов Рекса Стаута Ниро Вульф не без интереса почитывает недавнюю, экзотическую литературную новинку: «В круге первом» Александра Солженицына? Ничего подобного нет у Бориса Акунина. Для его героев литературные новинки: «Бесы» или «Синяя птица». Акунин пишет об умершей актуальности. Когда-то это было актуально, а теперь — нет, теперь немножко забавно, немножко старомодно… Да, да, ретро…
Про Акунина сначала хочешь сказать, что он — анти-Достоевский, и только потом соображаешь, что он ведь, пожалуй, и анти-Честертон, и анти-Чандлер, и… да и вообще — анти-любой-автор-детектива. Нет, нет, пожалуй, зря я так размахнулся… Прямо уж — анти-детектив. Просто при всем своем подчеркнутом западничестве, при всей своей англомании Акунин принадлежит не англо-американской детективной традиции, а русско-немецкой. Гофман — вот кто ее создатель.Помнится, тот же Куприн писал, что весь западный детектив в свернутом виде содержится в «Потерянном письме» Эдгара По. Продолжая сравнение, можно сказать, что весь русско-немецкий детектив заключен в «Мадемуазель Скюдери» Гофмана.
В первом случае мир — расчислен, выверен; мир можно решить, как шахматную, математическую задачку. В этом мире убийца, преступник вычисляется. Он — функционален. Недаром в первом детективе такого рода («Убийство на улице Морг») убийцей оказывается обезьяна. О самой себе ей нечего сказать. О ней все будет рассказано сыщиком; тем, кто ее вычислил, рассчитал.
Б. Акунин сознательно, идейно делает себя развлекателем, массовиком-затейником. В этом — его мудрость.
Совсем иное дело — русско-немецкий детектив, детектив Гофмана и Достоевского. Здесь мир принципиально нерассчитываем, непознаваем. Истинные причинно-следственные связи скрыты от людей. Дмитрия Карамазова люди наказывают за отцеубийство, и никто (кроме автора и читателя романа) не догадывается, что Митя наказан не за отцеубийство, а за другое преступление: он вытянул за бороденку из трактира штабс-капитана Снегирева. В результате от оскорбления, нанесенного его отцу, заболел и умер Илюшечка Снегирев. Дмитрия Карамазова наказывают правильно, но не за то преступление, которое он совершил. Вот это — идеальная ситуация русско-немецкого детектива.
Все здесь зиждется на самообнаружении преступника, на его добровольном признании, исповеди, если угодно. Развязка англо-саксонского детектива: потрясенный преступник спрашивает: «Как Вы догадались?», и следователь небрежно объясняет: «Ну как же! Вы же банку с фосфором забыли!» Развязка русско-немецкого детектива: сам преступник, захлебываясь в слезах и соплях, вопит: «Люди! Я убил…», или (будучи уверен в собственной безнаказанности) нога на ногу рассказывает, как он все придумал и сделал, тут-то и выползает из подпола живой-живехонький, немножко выпачканный сыщик… На самом низком, житейском уровне развязка русско-немецкого — финал некрасовских «Коробейников»: «Ты вяжи меня, вяжи, да не тронь мои онученьки!» — «Их-то нам и покажи…» Самый высокий, философический уровень такого рода развязки: трехвечерняя исповедь Свидригайлова.
Но до таких высот Б. Акунин не поднимается, да и не хочет подниматься. Он — автор странноватых кукольных трагикомедий про то, чего никогда не было, да и быть не могло. Он развлекается, как принц Флоризель из книг Стивенсона. От души веселит себя и своих знакомых. То главного подозреваемого назовет фамилией первого своего издателя Захарова; то обер-прокурора Синода Константина Петровича Победоносцева упорно и настойчиво из книги в книгу станет называть Константином Побединым по имени и фамилии художника, первого оформителя своих первых книжек; то и вовсе расхулиганится: на «спинке обложки» поместит из хвалительной рецензии Михаила Новикова хвалительнейший отрывок, мол, такие книжки надо читать подряд, не отрываясь, а в самом романе (который надо читать подряд, не отвлекаясь), на странице 110 испоместит такой сюрприз: «Новиков, шпынь ненадобный! Свинячий морда расшибу!» Фон Дорн бросился к Миньке Новикову из четвертого плутонга. С Минькой беда…»
Развлекуха, одним словом, капустник…

Мудрость Чхартишвили
Б. Акунин сознательно, идейно делает себя развлекателем, массовиком-затейником. В этом — его мудрость. Один раз он подмигнул читателю, мол, вот она — моя мудрость, следите внимательно — в первой части дилогии «Особые поручения», в «Пиковом валете»: «Барышни щебетали, без стеснения обсуждая детали его туалета, а одна, премиленькая грузинская княжна Софико Чхартишвили, даже назвала Тюльпанова «хорошеньким арапчиком»…»
София, как известно, мудрость. Мудрость Чхартишвили — вот как назвал веселую, лихую подручную обаятельного жулика, Момуса, Б. Акунин. Момус — тоже не без лукавства имя. Мом — бог смеха в Древней Греции. Настоящее имя Софико Чхартишвили — Мими. Мом и Мим — похоже на два клоунских прозвища, во-первых, а во-вторых, в подручных у бога смеха и должен быть — мим, артист, мастер перевоплощений.
Эксцентричность оставим для Ниро Вульфа и Эркюля Пуаро. Здесь нужен не эксцентрик, но джентльмен.
Так именно и обозначает Чхартишвили, ставший Б. Акуниным, свою мудрость — веселую, жуликоватую, с легкостью меняющую обличия. Не нравится? Больше по душе — серьезная литература, та, что решает серьезные проблемы? Пожалуйста! В дилогии рядом с повестью о веселых обаятельных жуликах, огенриевских, ильфопетровских, помещена повесть о философе-убийце; о мыслителе, задумывающемся о боге, красоте, жизни и смерти… В дневник Соцкого Б. Акунин ненавязчиво подкидывает немного, немножко из дневника Льва Толстого. Вот два варианта литературы, — рассуждает Б. Акунин. Вот легкий, веселый западный жулик — Остап Бендер или Энди Такер. А вот русский идейный убийца — Соцкий… Кто лучше?
Ведь, правда, Соцкого этого лучше в землю, а вот у Мома, Момуса, у бога смеха и превращений можно и в подручных походить, подзаправиться мудростью.

Революция
Акунинская идеология порою выпирает настойчиво, словно агитация и пропаганда. Припомним лучшие романы Акунина: «Азазель» — разоблачение «улучшателей» человеческого рода, позитивистов, воспитателей, ученым языком говоря — формирователей социогенных навыков. Отсюда берет начало одна из главных тем Б. Акунина, которой он посвящает все свои «варьяции», — неприязнь к «логическому парадизу», уверенность в том, что непредсказуемость жизни вообще и российской жизни в частности одолеет любые математические расчеты. Стоит только в тексте у Б. Акунина появиться деятелю, делателю, работнику, пытающемуся внести рассудочную стройность в симфонию бытия, как опытный читатель настораживается: это или несчастный безумец, или опасный преступник.
«Турецкий гамбит» — неожиданно узнаваемый литературный портрет Ильи Эренбурга, европейского, отважного журналиста-западника на службе у восточного тирана, азиатскими методами пытающегося европеизировать свою страну. В тот момент, когда французский журналист Эвре на спор пишет очерк о своих «рыжих сапогах», намек делается очевиден. Самый знаменитый герой Ильи Эренбурга — Хулио Хуренито — погиб в 1919 году из-за своих рыжих сапог в Киеве. А когда становится понятен этот намек, делается внятен и вопрос Б. Акунина. Не то же ли самое служить Сталину во имя европеизации России, что и служить Абдул-Гамиду во имя европеизации Турции? А отваги Илье Эренбургу было не занимать, как и Гюставу Эвре, доведись ему погибнуть, погиб бы с такой же бравадой.
Наконец, «Левиафан» — роман, в котором прокручивается тема гибели империи. Покуда — британской империи… Впрочем, вся фандоринская серия — сплошной рассказ об «империи с подкрученными усами», дескать, эх, хорошо было бы, если бы…
Впрочем, мало ли что было бы хорошо… Вон, Дороти Сейерс в Англии… Знай себе занималась своими учеными делами — археологией да классической филологией. Данте переводила. А в свободное от основной работы время пописывала детективы, главный герой которых, контуженный на Первой мировой войне лорд, среди многих своих дилетантских занятий (коллекционер, библиофил, филолог) — еще и детектив… Почему бы, кажется, и Григорию Чхартишвили, занимаясь своей японистикой и переводя Мисиму том за томом, так, между делом, а пропо, не выпускать к тому же и томики про любителей-сыщиков. Но нет, не получается… Не срабатывает. Между делом, да без претензий — это не для нас. Что-то у нас не так и не то.
Из-за этого «не так и не то» — акунинская завороженность революцией. Тут уж вы со мной не спорьте. Псевдоним Григория Чхартишвили — Б. Акунин — не только милая шутка, подсунутая дорогому читателю: прочти книжечку, дружок, на обложечке — ругань, но ты ее не заметишь. Здесь также не только намек понимающему читателю, мол, заполняю лакуну: будь в России не революционер Бакунин, а веселый беллетрист Б. Акунин, может, и не рвануло бы эдак. Нет, здесь — серьезный, почтительный поклон, знак уважения великому русскому революционеру, Михаилу Бакунину. «Кукольность» б.акунинской прозы почти исчезает, когда он принимается рассказывать о разрушителях, будь то киллер Ахимасс, либерал Гюстав Эвре или террорист Грин.
Он играет на разнице курсов. Так играл когда-то Юлиан Семенов.
Ничего тут не поделаешь: революционер Грин у автора выходит много симпатичнее жандармов. Сама-то мысль «Статского советника» проста до неприличия и сформулирована давным-давно: все, мол, революции организуются карьеристами из жандармерии. Бескорыстные отважные фанатики бросаются в огонь, в гибель за справедливое общество, а циничная расчетливая сволочь по их трупам топает к власти. Это — идеологическая сторона «Статского советника», эмоциональная — другая… Хотя, впрочем, и идеология довольно амбивалентна. Это ведь только по внешности осуждение полицейской провокации, по сути же — ее оправдание. «Злом зло уничтожается», — странный афоризм, правда? И чем собственно отличается Фандорин, отправляющий на смерть от рук революционеров неприятного ему жандарма, от того же самого жандарма, тем ведь и занимавшегося?
Иное дело Грин! Одинокий человек с револьвером — против пьяных и тупых погромщиков. Болезненный мальчик, который выковывает из себя супермена, — недаром Акунин называет своего террориста именно таким именем. Тем обозначается его родство не только с писателем Грином, но и вообще с писательством, с Мисимой, например, которого так здорово переводил Чхартишвили.
Повторюсь, слабый, болезненный подросток, много читающий, много думающий, воспринимающий мир особенным живописным образом, словно Рембо или Набоков, делает из себя сверхчеловека, экстремиста, не боящегося боли, лихо швыряющего ножи, отлично стреляющего, великолепно дерущегося; и не просто фанатика, а настоящего вождя, за которым в огонь и воду, на гибель и муки его молодые друзья — чем не портрет Мисимы, перенесенный в иную эпоху, в иную страну?
Тень Мисимы и ненужные вещи
Подберите себе Фандорина по вкусу
Тень Мисимы неоднократно проскальзывает над текстами Б. Акунина. В «Декораторе» Соцкий рассуждает о красоте человеческого тела «изнутри» словно герой знаменитого романа Юкио Мисимы: «Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? (…) Чем это так отвратительно наше внутреннее устройство? (…) Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку…» Собственно, о том и пишет упорно и настойчиво Б. Акунин: «Такова наша российская альтернатива: или безумие и экстремизм, или развлекуха… Буквально: кошелек или смерть».
Для того ему и нужен Мисима. Мисима — это ведь что такое? Это Япония после поражения. Япония, отрефлексировавшая свое собственное поражение. А что такое Борис Акунин? Обломавшаяся российская, а также и советская история и культура.
Что ищут в «Алтын Толобасе»? Библиотеку Ивана Грозного. Когда-то это было сокровище и интеллектуальное, и материальное, а сейчас… ничего особенного. Ненужная вещь, которая валяется под ногами. Вся эта культура и история — под ногами. Всем интересна, но никому не нужна. «Ненужность» — важная характеристика для Б. Акунина. Недаром в первом романе о потомке Фандорина, Николасе, попавшем в постперестроечную Москву, проскальзывает совсем неожиданный, совсем странный для Акунина сюжет; совсем удивительная для него — тема… На кого похож нелепый, длинный интеллигент, занимающийся совершенно ненужным делом, влюбляющий в себя женщин, внезапно обнаруживающий клад и — самое главное! — постоянно влипающий в опасные смертоносные ситуации, но выбирающийся оттуда с честью и с обаятельной улыбкой. Что это за герой такой? Ну да — Зыбин из «Факультета ненужных вещей».

Три писателя
Из всех писателей в России для Б. Акунина наиважнейшими оказываются Валентин Пикуль, Юлиан Семенов и… Юрий Домбровский. Валентин Пикуль и Юлиан Семенов важны для Б. Акунина — инструментально, функционально. Пикуль открыл то золотое дно, где можно рыть: российская история, которую никто не знает, но все о ней что-то слышали, всем она интересна, и потому можно играться с ней как угодно. Причем в пору постмодернизма можно просто пожать плечами, если сыщется какой-то настырный знаток: это же не исторические романы. Это — игра, интеллектуальная игра. Какие такие фактические неточности в романе, где вместо Скобелева — Соболев, а вместо Победоносцева — Победин? Этого всего не было. А вы выискиваете в этом «не было» или в этой «небыли» что-то, что было не так, или не совсем так… (В этом серьезное отличие Б. Акунина от Пикуля. Пикуль-то свято верил, что в его фантазиях — все так, как оно и было на самом деле. Акунин прекрасно понимает, что работает не с эмпирической реальностью, а с представлениями о ней. Он заранее согласен. Этого не было. Это я придумал, но интересно придумал, а?)
Юлиан Семенов открыл героя. Ибо кто же такой Фандорин, сыщик-джентльмен с седеющими висками, как не старый наш знакомец, Штирлиц/Исаев, в минуту жизни трудную цитирующий Пастернака, разбирающийся в поэзии, живописи и восточной гимнастике? Даже Япония была в биографии Максим-Максимыча Исаева. Но это мелочь — Япония. Главное в самом этом снайперском попадании: какой герой здесь, в России, привычной к хамству, понравится? Не интеллигент, нет, не просто интеллигент — Паганелей нам не надо. Эксцентричность оставим для Ниро Вульфа и Эркюля Пуаро. Здесь нужен не эксцентрик, но джентльмен.
Акунин вообще любит одеть хорошо узнаваемых героев литературы, истории и политики в иные одежды.
Совсем по-другому для Б. Акунина и Григория Чхартишвили важен «Факультет ненужных вещей» и лично Зыбин. Не функционально-инструментально. Здесь иное — уважительное, едва ли не боязливое. Б. Акунин ведь из тех писателей, у которых важно не то, что они сказали или перечислили, а то, что они не сказали: и то, что осталось у них неперечисленным. В статье «Похвала равнодушия…» Чхартишвили перечисляет бестселлеры 1997 года и вспоминает о бестселлерах 1989-го: «В списке бестселлеров «Книжного обозрения» — «Награда Бешеного», «Спутники волкодава» и «Профессия — киллер». А теперь представим себе, как выглядел бы перечень бестселлеров, скажем, 1989-го. Его возглавили бы «Колымские рассказы», «Верный Руслан», «Железная женщина», «Улисс», «1984». Как говорится, почувствуйте разницу!»
Почувствуйте, но еще сообразите, что в тех же номерах «Нового мира», что и «1984» Оруэлла, печатался «Факультет…» Домбровского. Его Чхартишвили не поминает: слишком дорогая для него книжка. Что-то она такое зацепила в душе будущего Б. Акунина, потеснившего своими Фандориным и Пелагией — Бешеных и Волкодавов…
Словно для того, чтобы подтвердить это предположение, Чхартишвили на второй странице своей «Похвалы…» еще раз пускается в перечисление, и снова «из обоймы» выпадает роман Домбровского: «Все мы помним, как в недавнюю перестроечную эпоху литераторы были героями и народными любимцами, все только и говорили, что о золотых тучках, арбатских детях, красных колесах и белых одеждах». Не встраивается для него в этот пренебрежительный перечень «факультет ненужных вещей», почему, спрашивается? Может быть потому, что Домбровский со своим Зыбиным показали и доказали нужность ненужных вещей? Очень возможно… Только для Б. Акунина эта нужность — вполне утилитарна. Из всей российской пересмотренной, ревизованной истории он делает — товар. Он играет на разнице курсов. Так играл когда-то Юлиан Семенов.
Разница курсов
Игра об Эрасте Фандорине
Сделаем-ка гестаповцев — симпатичными. Не будем забывать, что они — враги, но поглядим, посмотрим, как ладно сидят на них мундиры; как они умеют спорить; как они — интересны и экзотичны. Подобный же фокус проворачивает Б. Акунин с точностью до наоборот в «Шпионском детективе». Все мы знаем о зверствах НКВД, а мы вот возьмем да и изобразим НКВД так, как Юлиан Семенов изобразил гестапо и абвер. Они получатся не менее интересными и экзотичными, чем нацисты в «Семнадцати мгновениях весны».
Порою кажется, что Борис Акунин прислушался к рассуждениям Леонида Леонова, записанным Корнеем Чуковским в дневник. Леонид Леонов удивлялся Василию Гроссману и говорил приблизительно так: ну наболело у тебя что-то, ну придумал ты что-то важное — так придумай к этому мясу соус. Сделай какого-нибудь отрицательного героя: троцкиста, белогвардейца, фашиста — и все родное, наболевшее, парадоксальное вложи ему в уста «десницею кровавой». Похоже, что это — принцип Акунина. Любимую свою, дорогущую мысль о невозможности добра в реальном мире Б. Акунин вкладывает в уста Канарису в «Шпионском детективе»: нет на Земле борьбы между Добром и Злом; есть схватка между Злом большим и Злом меньшим. А уж ваше дело решить, на сторону какого Зла вы станете, какое Зло для вас меньшее — Сталин или Гитлер, НКВД или гестапо…
В этом (да и не только в этом смысле) Чхартишвили — убежденный антишестидесятник. Для наивного шестидесятника Ильи Габая, для мудрого шестидесятника Михаила Гефтера признание того факта, что методы НКВД ничем не отличались от методов гестапо — причина для пересмотра мировоззрения, начало идеологической ломки. Для Б. Акунина это — краеугольный камень. Именно так — ничем не отличались, поэтому не один ли черт, кому служит сильный и умный, отважный и веселый человек, той сатане или этой?

Шестидесятники и склад
Наверное, поэтому так истово и сокровенно не любит Б. Акунин шестидесятников. Один раз (в «Алтын Толобасе») он дал своей неприязни пусть и шутейно, но вырваться… «Киллер суперкласса … Кличка Шурик, а настоящего имени никто не знает… Киллер нового поколения, со своим стилем. Патриот шестидесятых: очки, техасы, кеды, Визбор и все такое…» Здесь Б. Акунин выполняет свой фирменный фокус: превращение «князя Мышкина» в «Николая Всеволодовича Ставрогина».
В «Пелагии и черном монахе» это происходит на глазах читателя. В «Алтын Толобасе» превращение происходит за текстом, но тем оно … неприятнее. Обаятельный Шурик из «Кавказской пленницы» — очки, ковбойка, чуб, улыбка — превращается в умелого и безжалостного убийцу. Но Б. Акунин не останавливается на достигнутом. Он дважды описывает гибель «киллера в очках». Один раз разыгранную, фальшивую, второй раз — настоящую, полную, всерьез. И оба раза — на пустыре. «Не помните, какой это убивец в очках и с обаятельной улыбкой так погибал… на пустыре?» — словно бы спрашивает у грамотного читателя Б. Акунин. Разумеется, помним, герой поколения, Мачек Хельмицкий из «Пепла и алмаза».
Это — глина, из которой можно вылепить все что угодно.
Удивительным образом Б. Акунин угадал. В самом начале своей кинематографической карьеры Александр Демьяненко, будущий Шурик, играл как раз романтических героев в очках и с наганом. Уже потом режиссеры сообразили, что очки и демонизм, очки и романтический ореол в России пока не совпадают, пока противоречат друг другу слишком сильно, чтобы на этом можно было сыграть.
Акунин вообще любит одеть хорошо узнаваемых героев литературы, истории и политики в иные одежды. До полного неистовства он доходит в «Пелагии и черном монахе», где сумасшедший дом становится складом всей русской литературы, да и не только литературы, да и не только русской. Имморалист-художник из рассказа Акутагавы Рюноскэ, погубивший свою дочь во имя искусства, соседствует с гениальным физиком, занятым проблемами радиации, чьи слова не поспевают за мыслями, и потому окружающим кажется, что он несет белиберду. Невдалеке пробегает еще не госпитализированный — православный политэконом и рачительный хозяин вверенного ему острова, Виталий II, настоятель Ново-Арарата.
Да, пожалуй, это — наилучший образ для текстов Б. Акунина. Это — не факультет ненужных вещей, как у Домбровского. Это — склад ненужных вещей, которым умелый менеджер находит применение, находит сбыт. Здесь нам снова поможет та давняя статья Чхартишвили. Ей-ей, ее вполне можно считать б.акунинским литературным манифестом, по крайней мере, программой действий. «Кто разрушил серьезную литературу? Кто ее убил?» — задает вопрос Чхартишвили, и сам же себе отвечает: «Перестроечная публицистика»

«Благодаря вам, критики, массы поняли, что Проскурин — это плохо, а Платонов — хорошо, и не стали читать ни первого, ни второго. Из-за вас, редакторы, читатель избавился от комплекса неполноценности, восполнил пробелы в образовании и получил индульгенцию от дальнейшего чтения». Все так, но после этой очистительной или разрушительной работы осталась масса неутилизованных вещей, неких неустоявшихся, облакоподобных представлений. Ну, скажем: революция — плохо, но революционеры бывают хорошие. Или: были такие провокаторы (вроде бы Азеф? или Судейкин? или Дегаев?), они работали на полицию и на террористов, а на самом деле карьеру лепили. Или: вот если бы не ксенофобия в Российской империи, то до сих пор бы стояла…
Они не то чтобы неверны, эти представления, но они слишком общи, именно что облакоподобны. И с ними можно работать, как и с приблизительными представлениями о том, что было в России — раньше. Это — глина, из которой можно вылепить все что угодно. Так Юлиан Семенов из приблизительных представлений о третьем рейхе, смешанных с опытом жизни в тоталитарной стране, вылепил мир добродушных, интеллигентных злодеев в красивых мундирах.








