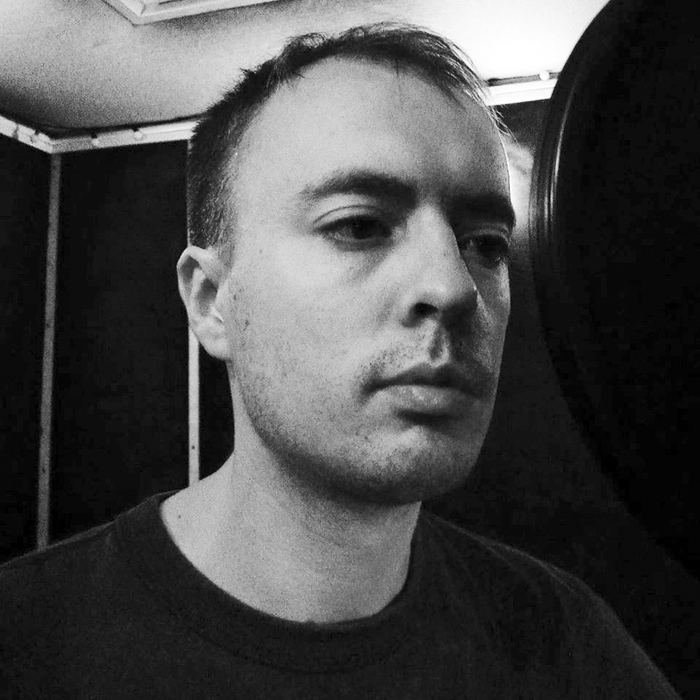Памяти Михаила Угарова

Михаил Угаров. Фото Никиты Павлова
Марина Разбежкина
Режиссер
Напишу коротко. Не хочу сейчас всю боль и непонимание случившегося отдавать словам.
Мы были девять лет вместе. В Школе. В нашей Школе. Дружили, что называется, бок о бок.
Мне всегда было трудно найти своего человека.
У меня есть соратники, ученики, товарищи, но мало друзей. Всего раз-два-три.
При жизни ничего не формулируется. Живем и живем, дружим и дружим. Его не стало, и я начала думать, что же нас объединило. Вдруг поняла. Нас объединила любовь к несовершенному миру. Идеальный человек был нам не близок. Идеальный мир подвергался сомнению. Миша любил тот, что ему достался. Это есть и в его пьесе «Смерть Ильи Ильича», и в поставленном им по этой пьесе спектакле «Обломoff». Это его песнь песней, гимн жизни, которая многим казалось пустой и бесполезной. А потом — моя вторая сильная театральная привязанность — «Жизнь удалась» по пьесе Павла Пряжко. Вот уж где были совсем никому не нужные люди. Дурацкие, раздражающие, бесцельные. Тех, которые нацеленные, в чистых одеждах и великих помыслах, называют ватниками. Миша прикрыл этих дурацких своей нежностью, не меняя ни строчки текста, и из всех этих х… и б… вырастала такая незащищенность и надежда… Хотелось плакать.
Ему стало трудно, когда случились последние времена. Когда он должен был выбрать, и выбор этот был прост: ты за черных или ты за белых. Сложным людям, а Миша был сложным, трудно даются простые выборы. Не то чтобы он не знал, за кого, но эта необходимость поделить жизнь на две краски вызывала сердечную боль.
Последний серьезный разговор у нас случился где-то год назад, когда он разочаровался в своем будущем герое и очень страдал по этому поводу.
«Да, Марина, у меня рухнул Герой. Понимаю, что нельзя близко подходить к революционерам…». Я его убеждала, что Герой как раз появился, но куда более сложный, противоречивый. Но он был неутешен. Он думал, что вновь нашел «целого» человека, но уже в жизни, не в книгах. А тот распался на атомы.
Он стал раздражительным, задыхался, тяжело ходил, перестал любить жизнь как раньше, целиково.
Но и черно-белое было не для него.
Взял тогда и ушел. Не написалась пьеса.

Валерий Печейкин
Драматург
В день, когда Угаров умер, я был на съемке документального фильма о смерти. Мы принесли на съемочную площадку гроб, поставили камеру и позвали людей. Всем предложили лечь в гроб и поговорить о смерти. Пришла актриса Людмила Корниенко из Дока. Начала со слов: «Сегодня умер Михаил Юрьевич Угаров».
И я сразу вспомнил свое первое в жизни интервью. Тогда в Театре.doc готовили премьеру моей дебютной пьесы «Соколы». И вот перед камерой посадили нас двоих — Угарова и меня. Тогда Михаил Юрьевич сказал несколько слов, которые я запомнил. О том, почему он стал драматургом. Суть такая: в юности ответ обидчику появлялся много позже самой обиды. Проходил час или день, когда он наконец понимал, что нужно было ответить. Из этих ответов и возникали пьесы.
Мне это наблюдение показалось очень точным. Так вообще вся литература возникает — как ответ тому, кто уже не слышит. Вот и сейчас мы все договариваем какие-то слова самому Угарову. Слова, которые он уже не услышит.
Вообще, после всякой «большой смерти» чувствуешь себя как на перроне московского метро. Смотришь на часы, где идет отсчет времени от ушедшего поезда. Это очень по-русски — считать время от убытия. Ведь по-настоящему мы никогда не знаем, придет ли следующий.

Талгат Баталов
Актер, режиссер
«Вчера я не пошел на «Засаду» в ЦИМ с репером Сявой, где я значусь в афише как автор идеи. Пошел смотреть «Заполярную правду», где играет новый актерский состав. В очень хорошей актерской системе работают. Полностью отсутствует исполнение роли, а есть присвоение текста. И даже больше, я бы сказал — присвоение темы. Актерская манера не исполнительская, а авторская, это их текст, а не автора. Двое из них просто очень хорошие — Талгат Баталов и Маргарита Кутовая».
Эту запись я увидел в ЖЖ Угарова 25 апреля 2010 года и чуть с ума не сошел от радости. САМ Угаров упомянул меня в своем ЖЖ! Тогда мне, недавно попавшему в Театр.doc, просто сорвало крышу. Я ходил очень довольный дней пять, а потом мне написали — приходите на встречу с МЮ, он приглашает вас в свой новый спектакль. Это был легендарный спектакль «1.18». Собственно, после этого поста в его ЖЖ моя жизнь перестала быть прежней, хотя сам я еще этого не знал.
Потом был совместно поставленный спектакль «Двое в твоем доме», куда я позвал современного хореографа Александра Андрияшкина и сделал танец под электронную шведскую музыку. Чтобы вы понимали — в манифесте Театра.doc категорический запрет на музыку, о танцах нечего и говорить. Угаров пришел на репетицию, посмотрел, сказал: «Талгат, вы о***и»?
И танец, и музыку оставил. Он был таким. Не был мэтром. Готов был меняться, слушать, он был погружен в реальность. Даже слово «учитель» к нему плохо клеится, товарищ он, что ли, или просто — любимый МЮ, «идеолог», как мы шутливо его называли. В последнее время мы меньше общались — жизнь молодого режиссера кочевая, ты то в Новокузнецке ставишь, то в Польше, то в Твери. Пару раз я заезжал к нему помочь с какими-то девайсами: то айпад тупил, то «Виндоус 8» работать не хочет. Потом, после премьеры моего спектакля «Пустота», мы даже немного поругались, из-за какой-то фигни. Но успели помириться. Я счастлив, что успели. Казалось, Угаров будет всегда. Казалось, всегда можно будет услышать от него коронное «Вы о***и, Талгат?!»
А теперь вот так. Его нет. И просто иногда произносишь непроизвольно, где-то внутри: «Вы о***и, Михаил Юрьевич? Бросили тут нас…» А потом плачешь и читаешь его ЖЖ.

Алишер Хамидходжаев
Оператор
Я работал с Михаилом Юрьевичем на фильме «Братья Ч» о Чехове. Так совпало, что в этот же год мне довелось снимать киноверсию спектакля «Вишневый сад» Льва Абрамовича Додина. Мне всегда хотелось, чтобы Чехов был современный, и Михаил Юрьевич для меня его вдруг так показал, как будто он рядом сидел, этот Чехов! И все персонажи из нашего фильма стали такими ожившими. Это была тончайшая ткань, к которой Михаил Юрьевич подходил со всей нежностью, не безалаберно, трогательно.
Когда накануне съемок он собирал вечером артистов, репетировал, я стоял рядом и смотрел, и было так интересно наблюдать, чувствовать, что мы все здесь, в усадьбе Толстого, вместе. Сам Михаил Юрьевич тоже много наблюдал, был немногословен. Он не ограничивал меня в работе, и я в ответ делал всё с открытой душой.
Вся жизнь Михаила Юрьевича была связана с живой классикой. Я работаю с разными людьми, и все так или иначе хотят ставить Чехова. А вот так подойти, и бац! — сделать, как Михаил Юрьевич, мало кто решается. Со всеми классиками он словно бы дружил через расстояние. И приглашал дружить нас.

Всеволод Лисовский
Сценарист, режиссер
Неделю назад, когда это произошло, стало очевидно, сколько места Михаил Юрьевич занимал в нашей действительности. Его уход это катастрофа. Не отделаться от ощущения объемного взрыва.
Михаил Юрьевич стал человеком, благодаря которому переход из эпохи в эпоху оказался не так травматичен — он их связал. А теперь чувствуется, что мы все очутились в другой действительности. И эту неделю мы живем с пониманием, что закончился очень большой этап истории. Или, может быть, это мы только теперь осознали, что он закончился. Нет больше связи.

Саша Денисова
Драматург, режиссер
Есть режиссеры, у которых творчество чем-то определяется — главные имена российского театра. Они — с режиссерским почерком. Угаров был явление промежуточное, от драматурга к режиссеру, а может быть целостное, иного порядка, леонардовского. Писатель, отказавшийся себя ставить — от скромности своей, от умаления, от внутреннего смятения, что может и не надо это все ставить, что стыдно, неудобно, хлопотно, когда вокруг молодые. Ставить собственные произведения, писать их в пользу театра. В пользу других. Как если бы Чехов отказался писать и стал Станиславским. Любили бы мы его за это? Корили бы непрерывно. Вот так и с Угаровым — большой драматург, который вошел своими пьесами «Голуби», «Смерть Ильи Ильича», «Газета Русский инвалид», «Оборванец», «Зеленые щеки апреля». Молодой, тридцатилетний актер из Кирова, ворвавшийся в московскую среду, на фестиваль Любимовка, и сразу услышанный, как вспоминает драматург Ольга Михайлова, потому что так никто не писал. Драматург, который перенес тяжесть с внешнего конфликта в область внутреннего, неразрешимого, обреченного.
— Мы поздние, Саша. — Говорил он, обобщая, мне это очень льстило и дарило надежду, что скоро все случится. — Есть такие, которые в двадцать лет раз — и на волне, а мы пока очнулись, пока то-сё, вот как поздние дети.
Есть параллель с Брехтом. Также придумал метод. Трудноуловимый — «не играйте». Скажите актеру — «ничего не играй», и он сойдет с ума. Нет, все это было довольно хитрой иллюзией, обманом. Шли в обход и театра, и самого актера. «Ничего нет интереснее, чем когда сидят просто люди и просто говорят», — все приводил в пример Угаров. Брехтовский эпический театр подкреплялся структурой его текстов, широтой обобщений, притчевостью, зонгами и так далее. Угаров терпеть не мог никаких обобщений или не дай бог притч. Но Угаров ставил-то и делал манифесты времени из текстов Пряжко, Курочкина, Славы Дурненкова. Его драматургом в сочинении спектаклей была Елена Гремина, директор театра, соратник, жена — в гражданственном спектакле «Час восемнадцать» о смерти Магнитского в тюрьме, в «Двое в твоем доме» — о вторжении гэбешников в дом белорусского оппозиционера Некляева. В «Жизнь удалась», программном для него, Угаров придумал, что начинается спектакль с читки, где есть актеры, а заканчивается драмой, где есть персонажи — и сами же персонажи читают ремарки, что превращает жизнь «одноклеточных», как писали в прессе, в античную драму, дает ей рамку эстетически. Пересматривая видео сейчас, понимаю аскетичность, пуризм формы, оставляющей живой текст. Из костюмов и декораций — одна фата невесты.
Угаров был недиктаторским режиссером. Как-то здесь слились его мягкий (внешне он мог быть достаточно непримирим к вещам и принципам, но по-человечески всегда был добрый) характер и уход от традиционного старого театра к аскезе «дока» (нет костюмам, нет музыке, нет застройке). Театр, в котором не играют — вот внешние протестантские мерки «дока». Какие басы — у нас Театр.doc! Анти — хорошее слово, которое определяло его стиль, метод. Он бы, наверное предпочел отсутствие метода. Антишкола, антирежиссура, антипостановка. Антихристианин — вот как Лев Толстой был против церкви, но за человечность.
Подступался к постановке не размашисто — не как Мейерхольд. Тихо, к какой-то запятой присмотревшись — как правило, увидев связь с реальностью. Охотился за реальностью. Он ведь не про интерпретацию был, не про, как он сам говорил, постановочный армреслинг. Пьеса как сухая правда в остатке, а режиссура — чтобы не нарушить. Театр не как культурный ритуал — вот вам фига, в Театре.doc ни буфета, ни гардероба: сами разделись, в автомате кофе купили. А как место для дискуссии. И сам Михаил Юрьевич, в общем, был аскетом: часто ездил за интерес, в Вологду, в Сибирь. Интересно ему было всё — страшно. Слушала его и думала: господи, да гори оно огнем, какая-то там очередная документальная экспедиция, а ему «страшно интересно».
Как-то выехали в его родной Архангельск с «Зажги мой огонь» — измерзли, в пять часов солнце погасло и все покрылось непролазной холодной тьмой. Угаров по-купечески повел нас в ресторан кормить какой-то зубаткой, расстегаями, поморскими козулями и вот среди морошки этой мы сидели, вспоминали Ломоносова что ли и вдруг он сказал: вот поэтому я уехал. Все консервативное, замерзшее, застывшее ему было органически невыносимо. Поэтому — молодые. Ученики. Вот когда на панихиде говорили: он не вынес жестокого времени, сердце не вынесло, он почувствовал, что его время вышло — внутренне возмущалась до ярости. У Угарова не было возраста: он уже оброс новыми учениками в Антишколе, в их школе с Разбежкиной. Были планы. Начал репетировать пьесу. И потом вышли двадцатилетние и стали говорить: я знал Михаила Юрьевича всего месяц, но…
И вот и впрямь: но. Мог бы столько всего еще. Для писателя, режиссера, гуманитария — не возраст. С другой стороны, его жизненный выбор — посвятить себя театру. В храме отец Алексей Уминский сказал: посмотрите, человек нецерковный, а сколько сегодня людей в храме собрал? И вот в театре Угаров стольких собрал, зажег, сделал вторыми режиссерами, а они стали первыми, вывел вместо себя впервые как драматургов, и они стали известными, востребованными, ушли работать в театры. Такой путь.
Мы с учениками решили поставить его пьесы. А ведь и логично. Я выбрала «Море. Сосны» — киноповесть о любви, фатальной, как потом выяснится, но пока здесь и сейчас. Угаров — он вообще про здесь и сейчас. Его ретро, прошлое, историзм не интересовали. И вот в киноповести этой лето 1964 года в Пицунде тоже обман. Море, сосны, официантка в забегаловке, командировочный с чемоданом, посмотрел на нее, заказал салат «столичный» и все, пропала жизнь. Что с ними станет через пятьдесят лет? А с нами что станет? Что вообще жизнь — мелькание за окном вагона? Где театр властен над живым, над реальностью, а где кино? Ведь только в театре мы можем протянуть руку через четвертую стену — для контакта. Михаил Юрьевич мечтал снять кино по этому сценарию — но не сложилось. Вот мы в Центре им. Мейерхольда попробуем сделать и кино, и театр в одном флаконе. Старые доковцы, разбираясь с ироничным, поэтичным, нежным угаровским текстом, будут играть, пытаясь понять одновременно — оставил он нам метод или нет. Или дух? Но на дух бы Угаров сказал: послушайте, дух — это какая-то ерунда…

Читайте также
-
Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...
-
Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина
-
Синефильская Россия — Десятка лучших в моменте
-
«Учиться воздуху» — О последней мастерской Сергея Соловьева
-
Кукарача-синефилия — Советы музыкального подполья
-
Не время для... — 2023 в российском кино