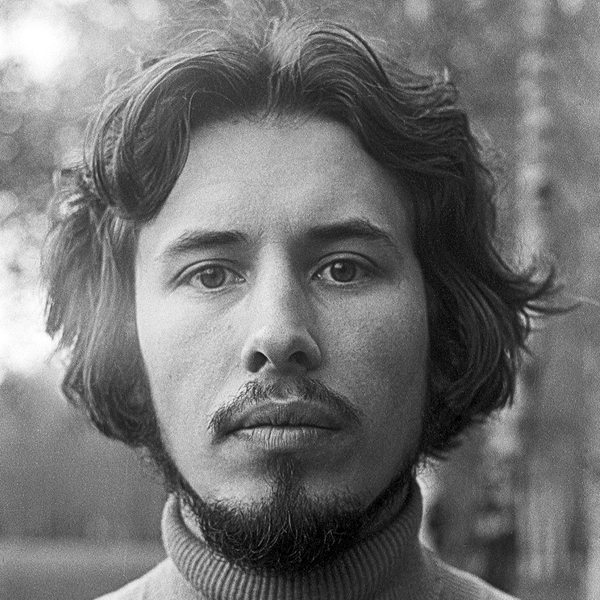Русский мир
СЕАНС — 59/60
Пишу эти строки в темные времена (как заметили бы тут Ханна Арендт и Юрий Шевчук). Планы Кремля превосходят самые удивительные страницы трилогии Сорокина о власти. Пишу из хтонических недр, в которые погрузилась значительная часть Московии после победоносной войны с Украиной. Из Московии, которую с таким постоянством описывает Владимир Георгиевич. Чувствую себя одной из его героинь, возможно, вдовой-княгиней, сбегающей из тесных и липких объятий Садового кольца, грозящих пытками и казнями.
Ловлю себя на неприятном ощущении, что «Теллурия», как и «День опричника» плюс «Сахарный Кремль», — литература для внутреннего пользования, весь черный юмор и темнейшая сатира Сорокина имеют шанс пройти мимо образованного читателя, живущего к северу и западу от русских границ; адекватно «Теллурию» мог бы оценить какой-нибудь радикальный китайский художник-концептуалист типа Ай Вэйвэя. Русский мир нулевых, мир имени Путина, пародийно описанный в последних книгах В. Г. (к корпусу «Дня опричника», «Сахарного Кремля» и «Теллурии» я бы безусловно добавила сценарий к фильму «Мишень» и изящнейшую «Метель»), для европейца слишком угрожающ и архаичен; этот мир попирает все европейские договоренности последних десятилетий. В этом мире невысока цена человеческой жизни и высока степень насилия, в том числе насилия над женщинами; насилие является главным жизнеустроительным фактором, о законе никто не вспоминает. Закон на пространстве книг В. Г. — это закон вертикали власти, право сильного: опричники правят бал даже после огромной европейской военной катастрофы и передела границ. Никакого гражданского общества нет и в помине, СМИ выродились до развлекательного инфотейнмента, на мигрантов и беженцев идет охота, есть высшие и низшие породы людей (неясно, то ли маленькие были всегда, то ли они — результат клонирования, как и люди-звери, философы с песьими головами и ослицы-доярки). Новые революционеры и заговорщики, борцы с имеющимся режимом, производят впечатление малограмотных безумцев с сексуальными отклонениями. Частная жизнь маленьких людей сотрясается военными инцидентами и прозрачна для спецслужб. Технологии коммуникации развиты до предела, знакомого любому современному пользователю гаджетов, но ума или счастья людям это не прибавляет, напротив, дремучая социальная архаика прекрасно сочетается с технологической продвинутостью. Ничего нового для начала нулевых, но эта проекция в далекое будущее несколько настораживает — неужели человечество обречено на Новое Средневековье, то есть на схему социального упрощения и бытового опрощения? Это не антиутопия в классическом ее понимании и тем более не фантастика. Антиутопия, как правило, рисует более злой, антигуманный, но и более сложно устроенный мир.

Если считать это антиутопией, то только в том смысле, что она — предупреждение.
Sorokin-Trip
Когда я думаю о Сорокине нулевых, я вспоминаю книгу американки Анжелы Картер, подруги Салмана Рушди, «Адские машины желания доктора Хоффмана». Там смысл утопического мира был связан со старой идеей насилия, то есть с идеей сверхвласти, ради которой можно пожертвовать живыми людьми. Сценарий антиутопии Картер разворачивался не в будущем, а в настоящем или даже в недавнем прошлом. Той же схемой пользовался Мишель Уэльбек в «Элементарных частицах»; Татьяна Толстая — в «Кыси». Сорокин практиковал эту модель в Ледяной трилогии, да и «День опричника» еще написан в ее рамках; этот жанр нулевых типологически, скорее, мог бы быть назван постутопией. В «Теллурии» В.Г. вроде бы обращается к классической схеме антиутопии. И эта схема в трактовке В.Г. меня несколько смущает, поскольку я думаю о будущем мире, как о менее простодушном, менее архаичном, даже если представить, что он будет более мрачным. В «Теллурии» есть все ходы изощренного ума Сорокина, ума антитоталитарного и антиконсервативного: постконцептуализм, постистория, руинированность культуры, пост (де)идеологизация. При этом есть все признаки того, что не будущее описывает В. Г., а настоящее. Если считать это антиутопией, то только в том смысле, что она — предупреждение.
Что еще смущает меня в определении «Теллурии» как антиутопии? Я думаю о читателе, воспитанном в парадигме свобод и договоренностей наиновейшего европейского времени, и с точки зрения такого читателя «Теллурия» мне не вполне понятна; в частности, непонятна эта проекция русской архаики в Европу, в том числе архаики социальной и политической. К такому уровню архаики Европа неспособна вернуться даже после военной катастрофы, которую предполагает В. Г.; у нее есть другие недостатки, но только не политическая старомодность. Идеи новейшего исторического европейского времени, которое я имею в виду, образовались после Второй мировой войны и укрепились после югославского конфликта. Главная его идеологическая концепция — развоплощение образа врага, для начала — вынесение этого образа за пределы европейских границ. Например, послевоенная Германия была интегрирована в общеевропейский мир при усилиях мира англо-американского: методами насильственными, как ввод войск, которые стояли в Германии до падения Берлинской стены, как денацификация во всем ее объеме, вплоть до люстрации; и методами партнерскими, дружественными — экономика, культура, социальные программы. Конструкт «Германия как враг народов» был разобран европейскими политическими силами на разных уровнях, и сконструирована другая страна — не угроза, а партнер, сейчас один из главных игроков Евросоюза. Со странами бывшей Югославии дело обстоит сложнее, но в американизированной модели общеевропейского отношения к ним видна та же тенденция: после примененного военного насилия сделать эти страны партнерами (кстати, любопытно, что в постевропейском мире Сорокина персонажи с южнославянскими фамилиями действуют на стороне обороняющейся от талибов Европы). Когда войны заканчиваются, выясняется, что экономические и дипломатические машины желания обладают властью более влиятельной, чем военная. Они заставляют людей действовать не по принуждению к миру, а исходя из интересов.

Не знаю, хотел того Сорокин или нет, но он в «Теллурии» косвенным образом предупреждает: без англосаксонского геополитического ума Европа легко обратится в Новое Средневековье. В «Теллурии» нет персонажей из Англии; непонятно, что бы с ней случилось после большой европейской войны с мусульманами и ряда локальных конфликтов, которые привели карту Европы к тому состоянию что описывает В.Г. Но есть француз, новый магнат и президент Теллурии, командир эскадрильи, захватившей запасы теллура в Сибири, — пародия не столько на Саркози, сколько на Берлускони: роскошь, культ здорового тела, эксплуатация образа отца народов, эротические излишества.
Нет у русского мира другого ответа самому себе, кроме как укрыться в деревне, нет других партизан в старой внутренней войне, кроме приморских.
Секс в «Теллурии» встроен в машины власти, как и во всем корпусе сочинений В.Г. Антипорнограф Сорокин по-прежнему прекрасный, он разбирает машины желания при помощи русского языка так, что мир эротического оказывается упразднен, будучи напрямую связан с идеей власти. Секс у Сорокина — практически секс де Сада, то есть картинки, которые интерпретировать будет не автор, а читатель. Две новеллы — об игрушечных одушевленных удах царицы, у каждого из которых свой характер и представление о свободе воли, и о русской царевне, которая инкогнито выезжает в пригород Москвы, чтобы спровоцировать изнасилование, а потом смаковать его с подругами, — развоплощают морок русского садо-мазо, выраженный в последних словах героини: «Как же это важно, давать народу своему. Чтобы любил». Этот метод Сорокин использовал в «Дне опричника» в эпизоде гомосексуальной вакханалии имени Эйзенштейна; а как более общую психодеконструкцию — еще в «Месяце в Дахау», грандиозной вещице 1994 года.
Финальная новелла «Теллурии» представляется цитатой из «Наутилуса» или Шевчука: мужик ушел от людей в тайгу, строит свой дом, свою крепость, без единого гвоздя, даже теллурового, без телевизора и мобильной связи, без женщин и начальства. И понятно, что ружьишко у него прикопано, и отстреливаться он будет, в случае чего, боевыми. Нет у русского мира другого ответа самому себе, кроме как укрыться в деревне, нет других партизан в старой внутренней войне, кроме приморских. Сектанты и Тамбовщина — русский народный ответ вертикали власти; ответ любой сакральности власти, претендующей на универсальность, вбитой в голову, будь то советская или теллуровая.

Вынь гвоздь из головы, и полегчает, хотя придется жить без кайфа.
Техническому разбору корпуса текстов Сорокина посвящено немалое количество аналитики разного качества. Главные позиции этого анализа: бескомпромиссный концептуалист, в нулевые перешедший на сторону масскульта. Поскольку В.Г. интересует идея и метафизика власти, этот переход понятен; скорее всего, ему стало неинтересно разговаривать с узким кругом пациентов. «Теллурия» устроена как система новелл, как новый «Декамерон», или же как была устроена гениальная книга того же автора, «Пир». Возможно, «Теллурией» Сорокин подводит итог многолетней медитации о русском мире. В ней есть место мифам о Сталине и русской революции, русском имперском сознании и русской философии, русском бунте и русской покорности. В ней нет опыта выхода из удушающего постсоветского мира. В ней нет опыта того недивного, но трудного мира, который строится в Восточной Европе в последние двадцать пять лет. В ней нет надежды на модернизацию. Это главное, что погружает меня как читателя и любителя Сорокина в пучину черной меланхолии. Но я благодарна В. Г., что он ею поделился.
А история про волшебные гвозди очень остроумна, хотя и не так нова, у нее есть истоки. Люди сидят на веществах, еще Курехин много про это шутил, и многие литераторы — поклонники наркотиков. У Стругацких была тема вещества, которое формирует идейный корпус граждан, оно называлось слег. Мысль, что вещества способны конструировать целые государства, претендуя на новую идеологию, кажется, ноу-хау В. Г.; он приравнивает вещества к идеям и народным политическим психозам, развоплощая последние. Вынь гвоздь из головы, и полегчает, хотя придется жить без кайфа. Так, как обычному человеку.
Много старых гвоздей вбито в наши головы. Их хочется вынуть и выбросить, какое бы ощущение временной эйфории типа «крымнаш» они ни давали бы.