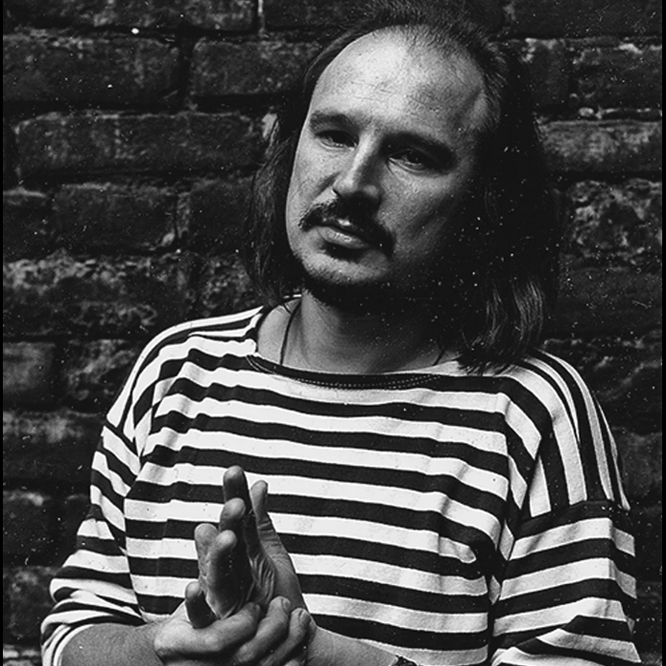Прорва
Образ пространства в современной кинодраматургии. Несистематические неблюдения
Люди и даже дела их исчезают на наших глазах
поистине беспримерно. Точно в яму, наполненную
жидкой грязью, нырнут, и сейчас же над ними все
затянет и заплывет.
— М. Салтыков-Щедрин. «Письма о провинции»
СЕАНС — 39/40
Как оказалось, пространство, а тем более его образ — вещь почти не уловимая и плохо формализуемая. Пространством в драматургии можно назвать много чего: интерьер, пейзаж, место действия, дом, город, страну, свет, цвет, в конце концов, мир, в котором существует герой и развивается его история. Сконструированный образ реальности, в котором физические параметры обрастают культурными, психологическими, философскими и прочими ассоциациями. Современность — понятие не менее безразмерное и не менее субъективное: где проходят границы времени, которое мы считаем своим?
Мы начинаем отсчет современности от конца восьмидесятых-девяностых, когда появились первые сценарии Надежды Кожушаной, Петра Луцика и Алексея Саморядова, Юрия Арабова — не похожих друг на друга ничем, кроме одного: их герои существовали в совершенно самодостаточном и агрессивном пространстве, которое в любой момент могло вздрогнуть и обернуться черте чем, напасть на героя, разверзнуться у него под ногами и исчезнуть, прихватив героя с собой. По прошествии двадцати лет стало очевидно, что актуальнее этого пространства — нет.

Прорва. Метафора. Синекдоха
Симеонов-Пищик: Все пилюли принял.
Лопахин: Этакая прорва.
Все смеются.
— А. Чехов. «Вишневый сад»
Кожушаная — Дыховичный: Прорва
Кожушаная — Хотиненко: Зеркало для героя
Кожушаная — Тягунов: Нога
Один из главных героев Надежды Кожушаной, Писатель, мучительно ищет синоним слова «прорва» — «бездна, пропасть, фук, пфук, белиберда, х***я, черная дыра…». Оно, это слово, должно обозначить то, что «сейчас в России того, самого главного, чего боятся все, — его нет. Оно — условное. Оно — не человек, не понятие. Оно просто — ничто. Но ничто, которое втягивает и уничтожает. Пугает. Калечит. Как прорва».
Вездесущее безликое зло, прорва, — это, по сути дела, антипространство, если понимать под пространством нечто обладающее характеристиками существования. Это РАЗРЫВ пространства, прореха, зазор, зияние, агрессивное отсутствие, заглатывающее то, что присутствует. Писатель немедленно иллюстрирует это ничто: бросает камушек за ворота властного особняка — и мы не слышим звука падения, зато слышим звуки шагов бегущих охранников.
Эта сцена в сценарии — ключевая, недаром «прорва» вынесена в заглавие, — слишком много смыслов аккумулируется в этом леденящем образе. Сталинское пространство и время спланированы и подчинены директивам. Цикличный хронотоп, расчисленный по сакральным государственным праздникам, которые, в свою очередь, знаменуют вечную жизнь когда-то раз и навсегда случившихся событий, — в состоянии переломить хребет любому несанкционированному историческому времени и любому нетипологическому происшествию. Но если бы только это…
«Культ личности» соединяет в себе ужас безразличной судьбы и произвол индивидуальной воли. Прорва, имеющая первым значением болотную топь, разрыв поверхности, сглатывающий все, что в него попадется, а вторым — ненасытного человека-проглота, становится единственно возможным словом для обозначения этого оксюморонного симбиоза. Писателю не удается найти эквивалента ни в одном другом языке.
Иван Дыховичный и Владимир Юсов в фильме последовательно и сознательно отказываются от реализации этой национальной метафоры. Пространство «Прорвы» намеренно уплощено до почти плакатного изображения, заполнено символическими общими планами и повествовательными средними и лишено теней, глубины, перспективы. Плоский кадр изысканно эстетичен, поверхностен, движение вглубь преграждает театральный задник, искусственная декорация в стиле «восхитительного фашизма» (Сьюзен Зонтаг). Режиссера интересуют совсем другие вещи: соединение эстетики сталинского лубка и психоанализа тоталитарного сознания; сексуальность как угроза государственному обезличиванию; насилие этическое, физическое, эстетическое… Да, герои, как и в сценарии, последовательно исчезают из пространства фильма. Но их пожирает не мифологическая прорва, а вполне реальный режим — недаром в фильме есть сцена расстрела Василия и его сотрудников, отсутствующая в сценарии.
За несколько лет до «Прорвы», в сценарии «Разлука», Кожушаная впервые опробовала хронотоп-западню. Он устроен проще и наглядней. Ежедневно повторяющаяся реальность, не помнящая родства, в которой пришельцы извне — полноправные сочинители прошлого и его обитателей: «Они не помнят ничего. Ни зла, ни добра. Как градусник: температуру набил — стряхнул — и нет ничего. Мертвые оживают, живые — как мертвые, каждый день заново. Вымотали меня. Все можно, понимаешь? А следа не остается». Вот это вот «все можно, а следа не остается» принадлежало в сценарии любому времени и любому месту в этой стране. И поэтому один герой остается экспериментировать, условно говоря, дома, а другой — бежит без оглядки по тянущейся до самого океана параллели. Но где он ни оказывается, суть остается прежней: «цикличность, однообразность дня» не зависит от переменной пространства. Он возвращается к тому же, от чего бежал: «ничего этого нет». Можно только разорвать это пространство и дать образовавшейся прорехе сглотнуть и, если повезет, выплюнуть. То есть умереть и родиться.
Владимир Хотиненко делает «Зеркало для героя» фильмом прежде всего реалистическим и психологическим. Восстановленная в подробностях историческая эпоха сопротивляется вневременному абсурду сюжета; напряжение между реализмом манеры повествования и мистикой и метафизикой сценария обозначено, но не доминирует и не нарастает — и потому не растет тот пронизывающий весь сценарий безотчетный ужас беззащитного человека, с которым на досуге вдруг решило позабавиться время/пространство, буквально выпрыгнувшее на ровной дорожке из-под ног. Фильм движется не по восходящей спирали, а по замкнутому кругу и становится замечательной историей про отцов и детей — не меньше, но и не больше.
Это одно и то же пространство, но пространство-оборотень, ловушка, омут, требующее от героя каждую минуту узнавания заново.

И все-таки кожушаная Прорва прорывается на экран. Ключ к происходящему — не столько Фолкнер, по мотивам которого написан сценарий, сколько Данте и Гоголь; метафора и синекдоха; адская бездна, завинчивающаяся в воронку, и бунт части против целого
Действие сценария «Нога» и фильма Никиты Тягунова происходит в двоящемся, троящемся, бесконечно отбрасывающем метастазы пространстве с параллельно происходящей жизнью. А может, и наоборот: это одно и то же пространство, но пространство-оборотень, ловушка, омут, требующее от героя каждую минуту узнавания заново. Граница между чужой страной и своей, прошлым и настоящим, вроде бы существует — вот же она, и столб, который врыли для ее обозначения герои, стоит на своем месте. И с одной стороны — свой друг, своя прекрасная незнакомка, своя радость и своя юность, а с другой — чужая земля, чужая воля, чужая нога, чужие убийства.
Кажется, что можно вернуться к себе, просто перейдя границу обратно: «Снов-то больше нет». Но граница оказывается не просто проницаемой в обе стороны. И вместо того чтобы что-то пригвоздить и защитить здешнее от нездешнего, этот пограничный столб становится осью, вокруг которого свое и чужое пространства начинают закручиваться, как вода в водовороте, перемешивая слои реальности и ирреальности, живое и неживое. В этой воронке уже ничего нельзя различить, кроме, пожалуй, одного: она с легкостью всасывает живую жизнь, но нежить, что не тонет, — утопить не в состоянии. «Мартын дождался, когда Тот скроется из виду, достал пистолет, прикрепленный к протезу, вложил дуло себе в ухо — и спустил курок. Тот обернулся на звук выстрела — выстрелов он не боялся — и пошел дальше с горы. В долину. К людям».

Окраина. Гипербола
Теперь вместо буйных Ямков
осталась мирная, будничная окраина,
в которой живут огородники, кошатники,
татары, свиноводы и мясники с ближайших боен.
— А. Куприн. «Яма»
Луцик, Саморядов — Луцик: Окраина
Луцик, Саморядов — Калатозишвили: Дикое поле
Самый концептуальный сценарий Луцика и Саморядова, «Окраина», построен на пересечении поэтики фольклорной былины и канонов социалистического реализма.
Пафос героической Родины, герои которой вечно правы в своей борьбе против вечно неправых чужих. Своя земля, которая дает героям силу и право ее защищать. Языческая редукция знаменитого «не в силе Бог, но в правде», где Бога нет, а правая сила — есть. Современность, которая призвана стать повторением той самой легендарной эпической эпохи, когда изначально лежащий в немощи на печи богатырь набирается сил с каждым подвигом, сиречь праведным убийством, которые и движут сюжет. Презрение к почестям и деньгам (потому что если поведешься — сила отнимется) и нерушимый культ справедливости. Нерушимая же телеология, правая цель, которая оправдает любые средства.
Сильный положительный герой всегда был камнем преткновения для русской классической литературы: вечно-то он маялся и сомневался, вечно пытался загородиться от насилия рефлексией или верой. Совершённое, пусть и из соображений справедливости, убийство разрушало его дотла, а возродить его могли только любовь, смирение и мудрость опыта. Но в былине и в соцреализме добро всегда с кулаками, оно всегда сильное, лишенное разрушающих сомнений в собственной правоте. А главное — всегда патриотическое: зло приходит не изнутри, но снаружи; оно пожирает и попаляет, и единственный справедливый ответ — пожрать и попалить в ответ; отсюда и «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». «Чапаев» и «Александр Невский» с этой точки зрения зиждутся на тех же основаниях, что и былины об Илье Муромце или Микуле Селяниновиче.
Вообще, трудно сказать, кто первый начал про широкую русскую натуру, взросшую на широком русском просторе. В русской оде XVIII века перечисление географических рубежей России с торжественным «от и до» провоцировалось радостной самоуверенностью молодой империи. Обширные пространства означали государственную мощь и не были отягощены никакими национально-психологическими коннотациями — то есть из этой обширности для русского человека пока еще ничего не следовало, и поклонники климатической теории Монтескье еще не приложили его наблюдения к русскому материалу. Если (произвольно и бездоказательно) посчитать точкой отсчета чаадаевское «Мы лишь географический продукт обширных пространств», то миф о широком русском характере, обусловленном широким русским простором, сформировался и окостенел всего за несколько десятилетий: от Достоевского, настоящего специалиста по широким русским людям (Свидригайлов: «Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному»), — до Бердяева с его сакраментальным очерком «О власти пространства над русской душой».
Даль не рождает удаль, физика не рождает метафизику, гиперболы ему не пригождаются.

Советская власть мало что к этому добавила: страна родная была широка, в ней много было лесов, полей и рек, и именно поэтому ее человек, хозяин необъятной Родины, дышал вольно, умел смеяться и любить, как никто, но и брови супил тоже, как никто, сурово, с самыми разрушительными последствиями.
Сценарии Луцика и Саморядова написаны с точки зрения не просто окраины, но вот того самого простора, который рождает просторных людей, не готовых мириться с тем, чтобы их кто-то «сузил». Просторный человек и просторная природа живут в любви и гармонии между собой. Степь, лес, поле, пустыня; буран, ураган, холод, жара — пространства, заполненные стихиями, своим не опасны, напротив — они дают им силу и азарт; это мир, в котором всегда русскому (советскому, впрочем, тоже) здорово, а немцу — смерть. Эти пространства и эти стихии для своих готовы на все — в том числе и усмириться, и подчиниться, словно цепной пес, рвущий на куски чужого, но сворачивающийся в клубок у ног хозяина: «Окраина» начинается стылой степью и ледяным ветром, а заканчивается теплой пашней, ложащейся под могучие трактора.
Все фильмы по сценариям Луцика и Саморядова, снятые в начале 90-х, сценаристов только раздражали, казались вялыми и невзаправдашними: «Допустим, человек должен умереть за Родину. Но перед тем как умереть, он должен вспомнить маму. А зритель в этот момент должен расплакаться. Так кино и делали. А теперь что?»
Снятая Луциком в 1998 году «Окраина» должна была стать манифестом — и стала. Историю борьбы фермеров за свою землю, захваченную идолищем поганым, тьфу, нефтяным магнатом, Луцик излагает на языке сталинского кинематографа с его архетипами и жесткой визуальной номенклатурой. Посыл очевиден: ТОГДА пафос и героика не были еще скомпрометированы постмодернистской иронией, они были искренни и простодушны, а потому — подлинны, несмотря на то что метель была ветродуйной, а изба — павильонной. Из всех тропов востребуется именно гипербола, объединяющая архаичный богатырский эпос и Большой Стиль: «обычные» люди и пространства развиваются в геометрической прогрессии и повторены, как положено эпосу, с усилением — и неважно, идет ли речь об открытом поле или закрытом пространстве избы, пахаре-воине или рабочем-богатыре.
В конечном итоге, все равно разложится на Жизнь и Смерть — ну, а на что же еще? …
«Дикое поле» было как раз тем сценарием, который Луцик и Саморядов собирались ставить незадолго до трагической гибели Саморядова в 1994 году. Это была все та же степь, но пашней ей было стать не суждено: поле оставалось диким, невспаханным, по нему гулял из края в край ветер да ходил лихой человек. В «Диком поле», может быть, больше, чем в любом другом сценарии Луцика и Саморядова, чувствовались ранние 90-е: самоустранившееся государство, шальная распоясавшаяся свобода и отдельно взятые нормальные люди, которые пытались продолжать делать свое отдельно взятое нормальное дело посреди все дичающего и дичающего пространства. Которое, в свою очередь, будто разумный океан Соляриса, все время посылало герою то забытую любовь, то безумного убийцу, то ураган, то поножовщину. И герой, вооруженный лишь неразумной совестью да зеленкой с бинтами, отбивался от энтропии стойко и страстно, буквально до ассоциаций с Брестской крепостью.
Снятый в 2008 году фильм Михаила Калатозишвили «Дикое поле», вынутый из контекста отчаянных реалий начала 90-х, утрачивает самое главное: разлитое в пространстве ощущение тревоги, беспокойства, опасности, угрозы для обычной обывательской жизни, сопровождающее распад любой цивилизации. Его поле дикое, но симпатичное — как симпатичны и трогательны его обитатели, люди, конечно, спившиеся, стреляющие и ругающиеся, но, в сущности, добрые и благодушные, для которых дикое поле — дом родной, и другого не надо. Оно не стремится поглотить крохотную больничку-островок, не давит зрителя далями и просторами, оно вообще лишено энергетики, лежит себе вокруг — плоское, зеленое, живописное, спокойное и беспафосное. Даль не рождает удаль, физика не рождает метафизику, гиперболы ему не пригождаются.

Круг второй. Ирония. Символ. Риторический вопрос
И не знаю, зачем я пришел сюда,
в это темное и полное полуночных
страхов пространство.
Ф. Сологуб. «Победа смерти»
— Мировое пространство, — перебил
его Александр Иванович, — порой
меня докучает, отчаянно докучает.
А. Белый. «Петербург»
Арабов — Сокуров
Арабов — Серебренников: Юрьев день
Сюжеты Юрия Арабова сколь метафизичны, столь и приземленны, кто бы ни участвовал в действии — Молох или Солнце, ангел-истребитель или вылезший из-под могильного камня Чехов. С одной стороны, их легко кодифицировать: Смерть, Власть, Родство, Любовь, Одиночество и прочее, с другой — одиозную линейность интерпретации может остановить только ирония. Органичность иронии, скепсиса, сарказма, иногда прямой сатиры, — позволяет арабовским почти притчам не застревать на уровне метафизических категорий. Один из самых беспощадных его сценариев, «Круг второй», — нанизывает абсурдные, злые, смешные до ужаса диалоги один на другой: «Одевай тапки, говорю! — А может, ботинки? — Он где у вас лежит? В постели или на прогулку пошел?» Гитлеровские монологи про крапиву, разводимую на пространствах Белоруссии (ср. ветвистую горчицу из «Истории одного города») или ленинская охота (с ежедневным ритуальным «А откуда у вас такое замечательное ружье? — Его мне подарили бауманские рабочие», при том что никакого ружья нет и Ленин стреляет из пальца) — это гротеск самого что ни на есть щедринского разлива, злой и веселый; классический бурлеск, подсвистывающий высокой трагедии снизу, из пошлой комедии, задолго до всяких постмодернистских лозунгов.
Отсюда — легкость в выборе и смещении точки зрения и образа повествователя, вплоть до материализации в бесплотного духа, проникающего сквозь стены и черепные коробки, как в «Тельце». Отсюда — легкость в смешении разных систем координат, когда дом может отчалить от берега или город, распластанный на жаре, — взлететь и раствориться в мареве. Отсюда — легкость проникновения того мира в этот и наоборот, когда вылезший из могилы мертвец с удовольствием принимает ванну и ест бутерброд с колбасой, а потом садится на скамейку и проваливается в потустороннее. И неважно, идет ли речь о более-менее классической фантастике («Дни затмения»), политической сатире («Скорбное бесчувствие») или комедии абсурда («Ужас, который всегда с тобой»), — именно гротеск, предполагающий оксюморонное сочетание любых кусочков реальности, предоставляет Арабову мощную возможность компилировать странное пространство из нестранных по отдельности фрагментов. А ирония позволяет этому странному пространству вселять не гнетущий страх, но веселый ужас — дьявольская разница.
Фильмы Александра Сокурова иронию не усваивают. Пространство, в котором существуют его герои, никогда не хулиганит. Оно серьезно, неизменно и непреклонно дихотомично: есть этот мир, в котором все — временное, и есть тот мир, мир Смерти, про который мы ничего не знаем, но именно он — вечный и настоящий. Все, кого мы видим, либо пришли оттуда, либо собираются туда. Так сместить перспективы, так изломать пропорции, так поцарапать пленку, так припорошить белый день и черную ночь сумеречной пылью пограничного состояния — можно только оттуда. Любое место обитания никак не пригодно для жизни: оно либо разорено и замусорено («Круг второй»), либо стеснено до невозможности дышать («Тихие страницы»), либо распахнуто навылет («Мать и сын»), либо вообще лишено стен и отгорожено от вторжения чем-то совсем эфемерным, вроде развевающегося по ветру брезента в «Александре» — и в любом случае уязвимо. Все, что мы видим на экране, свидетельствует о том, что у того мира есть над этим власть, а у этого — нет никаких сил. Здешние могут только бессильно наблюдать за тем, как окружающее их пространство кромсается почем зря, а в возникающие бреши лезет не пойми что…
Это пространство, замкнутое изнутри и затерянное снаружи.
Гротеск и ирония сценариев Арабова вытесняется в кинематографе Сокурова символом со всеми вытекающими последствиями: символ — вещь серьезная, торжественная, тоталитарная и по отношению к конкретной реальности во всех смыслах безжалостная. Любая частная история становится архетипической, изображение — предельно семиотизированным, любой появившийся в поле зрения объект немедленно требует считать онтологические смыслы и интерпретировать их. И если в гротеске важно именно сочетание несочетаемого, напряжение между разными частями одного целого, то в символе никакого внутреннего противоречия быть не может, ибо его безграничное пространство вмещает все сущее, которое, в конечном итоге, все равно разложится на Жизнь и Смерть — ну, а на что же еще? …

Приведем один пример.
Сценарий «Мистерия горы» начинается со сцены пробуждения героини. Тяжелые шторы, странная кровать, переходящая в кресло (не для одного, но и не для двоих), тяжелая картина с тяжелой девкой на толстых коленях — и даже рассыпанная по кровати легкомысленная дамская парфюмерия тут же пригвождается гротескной пудреницей со свастикой на крышке и захлопнутой внутри мадонной. Дом закрыт и заперт, это ощущается почти физически. Но стоит просто раздвинуть тяжелые шторы, как за ними оказывается — рассвет, снег, небо, и героиня мчится, «поднимая ветер», стремительно прорезая комнаты и лестницы, слетая с крутого склона, рискуя сломать шею, распевая, хохоча и подстегивая свой велосипед, — туда, наружу, вниз, в тартарары, в жгучий холод утренней воды, весело чертыхнувшись на тут же вылезшие из кустов недреманные бинокли охранников.
Порядок смыслов — прямой: бытовое пространство дает импульс метафоре и иронии, но оставляет предмету его полноценную предметную жизнь. Уставившиеся на молодую красивую женщину муж- ские бинокли сначала — из истории о самой что ни на есть естественной человеческой реакции, и уж только потом, по мере развития сюжета, выявляют свой символический потенциал недреманного ока тоталитаризма, причем достаточно несуразного и даже смешного ока тоталитаризма — но уж никак не вместо и не в обратной последовательности.
Начало фильма «Молох» заполнено серым туманом. Нет никакой темной комнаты против яркого неба, но есть серый холодный камень тюрьмы и теплое женское тело узницы, прислонившееся к нему. Нет сумасшедшей гонки, но есть пластически выверенные движения, немедленно отсылающие к «Олимпии» и обращенные… мы не понимаем, к кому обращенные, потому что вокруг героини по-прежнему только серый холодный камень. И когда, по прошествии времени, из окружающего мира таки вылезают прописанные в сценарии бинокли — им уже не достается ничего личного. Они даже не могут и биноклями-то толком побыть, но только точкой зрения наблюдателя, который везде и нигде, который — Камень, наблюдающий за Телом; Тюрьма, наблюдающая за Плотью; Бог, наблюдающий за людишками; Смерть, наблюдающая за Жизнью… Бытовому пространству тут делать нечего.
Сценарий «Юрьев день» необычен для Арабова. Предмет так беспокоит автора, что автор твердит и твердит о нем, чтобы осознал и самый невнимательный. Чуть ли не первая сцена — длящийся и длящийся «унылый провинциальный пейзаж». Единственная доминанта этого пейзажа — церковная колокольня — уподобляется «неуверенному акварельному мазку, что вот-вот высохнет и пропадет совсем». Чуть ли не первый же диалог матери и сына — об условности и тревожности пространства, причем именно русского пространства: «Километров двадцать или тридцать осталось… — А там еще пятьдесят. И еще двадцать. Я не выдержу, я с ума сойду. — У тебя, похоже, боязнь открытого пространства, как у Петра Великого». На первой же странице создается мир, который больше не поменяется: у отечественного пространства нет физических характеристик, только психологические и мистические — оно действует на сознание угнетающе, не поддается измерению и не гарантирует существования.
«Юрьев день» Кирилла Серебренникова, как кажется, едва ли не самая дословная экранизация арабовской прозы.
Дальше сценарист уже может позволить себе создавать бытовых героев и бытовые ситуации, узнаваемые до колик и мурашек, — но мы-то уже знаем: они сейчас, конечно, есть, но в следующей сцене уже могут быть не они, да и вовсе не быть. Причем мы даже не можем сказать «в следующую секунду», — потому что история героини и ее сына развернута как вероятностная модель, как набор возможных вариантов биографических траекторий, каждый из которых равноправен другому и одновременен.
Где-то там, за пределами видимой ойкумены, — жизнь, у которой смысл уже найден, поэтому она может двигаться только линейно, по восходящей, без зигзагов: из провинции — в столицу, а там — трудный труд и заслуженная награда: успех, телевизор, Европа и далее везде. Здесь, дома, на родине, смысла нет. Вернее, так: он, может, и есть, только его нужно заново добывать, невооруженным глазом не видать. А потому невозможно движение с заранее заданной целью и траекторией; невозможно знать, где ты окажешься в следующий момент, и если крепко не держать за руку кого-то, кто тебе дорог, то он может исчезнуть при первом же выверте пространства. Просто завернул за угол — и скрылся из виду, затянуло туманом, запорошило поземкой, нет ничего проще, чем раствориться в воздухе Родины! А кем ты вынырнешь оттуда, из тумана, будешь монах или, наоборот, вынешь ножик из кармана — Бог весть, а больше никто.
То, что описывает Арабов, — не прорва и не дикое поле. Это пространство, замкнутое изнутри и затерянное снаружи. Это головоломка, загадка, задачка умной дочки из сказки, лабиринт, в котором кто-то дергает за ниточки, чтобы одна дверь открылась, а другая — закрылась, и в котором без устали метет известная метель, путающая карты и переменяющая участи… С одной только оговоркой: исчезнуть, то есть раствориться или преобразиться, получается у героев, тех, про кого история, пришлых, чужих, которые из столиц и забыли, как речка называется. А автохтоны живут и не исчезают, видно, им в голову не приходит. А если и есть у них какие неразгаданные вопросы, то только действительно неразрешимые: «Откуда у него на ляжке оказался речной рак? В Колокше нет раков уже лет тридцать…»
«Юрьев день» Кирилла Серебренникова, как кажется, едва ли не самая дословная экранизация арабовской прозы. Режиссер идет по сюжету бережно и внимательно, не выпуская ни петельки, ни крючочка, ни реплики, ни паузы, ни заоконных далей, ни колокольных звонов, а главное — стараясь сохранить напряжение между бытом и духом, гротеском и лирикой. Все это получается, кроме одного: вот того самого пространства, в котором может исчезнуть человек, раствориться или преобразиться. И это становится настоящей катастрофой для фильма: сюжет, рассказанный впрямую и помещенный в бытовое пространство, превращается в назидательную историю о поисках корней и истоков, в которой нет тайны, но зато есть мораль; в которой зритель, обманутый реалистическим изображением и интонацией повествования, начинает раздражаться и обвинять авторов — мол, клевета, так не бывает, а если и бывает, то не так, — и задается бесконечными вопросами, куда же делся мальчик и почему мать бросает его искать.
С одной стороны, получись задуманное пространство — оно само стало бы ответом. С другой — почему оно вообще должно нам отвечать?

Морфий. Амнезия. Бегство
Занавес, потом первая кулиса,
потом вторая,
и дальше пустое пространство.
А. Чехов. «Чайка»
Бодров-мл. — Балабанов: Морфий
Бакурадзе: Шультес
Сценарий Сергея Бодрова-мл. «Морфий» написан целую вечность назад, но кажется, что его время настало именно сейчас. От рассказов Булгакова, взятых как точка отсчета, остаются только отдельные фабульные ходы, но меняется главное: никакой победы действия над хаосом. Текст Бодрова пропитан унынием и поражением, начиная с того самого момента, как доктор Поляков высаживается на дощатый перрон станции Сычевка, в серый мелкий дождичек и безнадежно пожухлый, заляпанный грязью плоский пейзаж. Поначалу кажется, что для достоверности происходящего хватит визуального ряда, созданного русскими передвижниками и народнической прозой, который любой русский человек восстановит с закрытыми глазами, — во всяком случае, Балабанов начинает именно с него. Но по ходу повествования эта прописанная в бытовом пространстве история смещается внутрь, пространство начинает деформироваться, сжиматься и расширяться в ритме пульса, и герой то оказывается за дверью шкафа в сортире, то вываливается в бескрайнюю метель с волками — соответственно, до и после укола. Понятное дело, что морфий может сделать с пространством все что угодно, но, похоже, у Балабанова есть в запасе кое-что еще.
Самый частый, отбивающий ритм, кадр — это взгляд камеры через окно. Чаще всего это окно докторского дома, из которого виден двор, лошади, мужички, — кстати, именно этот вид из окна больше всего похож на дагеротип или олеографию. Но есть еще окно флигеля, окно поезда, окно больницы, окошечко, сквозь которое выдают морфий… Понятное дело, что фильм, который начинается с прибытия поезда и заканчивается в кинотеатре, может позволить себе поиграть с рамкой-кадром, почему бы и нет. Но вот этот взгляд через окно, взгляд человека, отдельного от того, что за этим окном, отдельного и отделенного; взгляд настороженный и напряженный, длящийся и повторяющийся, что он там высматривает, какая-то чертовщина… И тут что-то начинает происходить, неуловимо меняться, идиллический дагерротип с мужиком и лошадками на дворе, вставленный в раму окна, на наших глазах набухает тревогой, смутным беспокойством, нервическим обострением, аллергией, действительно ли необходимо туда, за это окно, за эту дверь, выходить?! Что-то невероятно травматическое есть для героя в этой реальности, само по себе, без привходящих дифтеритных мужиков и пожженных соседей. «Морфием не лечатся», — говорит Анна Николаевна, но она еще не знает, что еще как лечатся, только не от боли, а от непрекращающегося ползучего ужаса, который почему-то, необъяснимо почему, исходит от жизни; смертельное лечение от смертельной болезни, в которой герой — не участник, а только симптом. Можно удрать из города в провинцию, а потом обратно в город, можно удрать от боли в морфий, а от морфия — в никуда, — никакие перемещения не спасительны, и, главное дело, от себя-то как раз можно убежать, в тот же морфий, а вот от ползущей из всех щелей обреченности — никак. Поэтому герой просто берет и исчезает. Чтобы его больше нигде не было.

Брать в голову жизнь, в которой все есть, а ее — нет. И сил на такую жизнь — тоже.
Шультес Бакура Бакурадзе изначально выключен из окружающего пространства травматической амнезией. Его мир состоит из того, что записано в записной книжке, и ничего, кроме записанного, не существует, потому что не может быть опознано и названо. У героя нет проблемы контакта с окружающей реальностью, потому что все его контакты перечислены, и достаточно только перелистать странички и найти нужную. Остановки троллейбусов, улицы, магазины, метро и прочие локусы, в которых он осуществляет свою профессиональную деятельность вора-карманника, не нуждаются в названии и запоминании, потому что из любой точки Шультеса довезет домой такси по записанному в книжке адресу. Герой целыми днями перемещается по городу, которого для него не существует, — но зритель вынужден мотаться вслед за ним, и только зритель может что-то в этом пространстве опознать.
Итак, мегаполис Шультеса — это городская окраина, далекая от титульных достопримечательностей. Метро, троллейбус, автобус, остановка; вещевой рынок, ларек, магазин; ремонтные мастерские, баня, стадион, морг; двор, улица, перекресток; дом, гараж, пивная — эти объекты лишены каких бы то ни было эмоций, они бесстрастны и равнодушны и живут своей отдельной жизнью от героя, от режиссера, от зрителя. В них нет ничего, что достойно запоминания, ничего, что выделило бы их из автоматической повседневности любого горожанина. Это пространство функционально и безразлично, оно обеспечивает жизнедеятельность — и только, и пока взаимодействие между героем и городом не выходит за пределы этой функциональности, пока все эти нескончаемые люди не имеют к нему никакого отношения — город безопасен просто потому, что предсказуем и индифферентен, доведен до автома- тизма и обезболен. Но как только что-то, что не вписывается в общую индифферентность и функциональность, чья-то чужая, мощная, неостановимая эмоция, разрушает автоматизм бессознательного существования — боль возвращается.
Если решиться помнить, то придется жить уже в другом городе — тесно заполненном людьми, с которыми нужно соприкасаться, и осознавать их, и взаимодействовать; ходить по замусоренным рынкам, ехать в душном метро, идти вдоль нескончаемых серых стен и зачем-то видеть все это, просто придется брать в голову всю эту совершенно не нужную, чужую, дурацкую жизнь, которая слишком близко, слишком рядом, чтобы не задевать ее даже случайно, но в которой нет ничего, что для него имело бы хоть какую-то ценность и какой-то смысл. Брать в голову жизнь, в которой все есть, а ее — нет. И сил на такую жизнь — тоже.

Сказка про темноту. Без тропов. Без воздуха
Я разом сломал все заборы
и полетел в пространство.
Ф. Достоевский. «Подросток»
Сидишь у огня и слушаешь:
все одно? пустота, темнота… та… та…
И. Шмелев. «Солнце мертвых»
Родионов — Хлебников: Свободное плавание
Родионов — Хлебников: Сумасшедшая помощь
Родионов — Хомерики: Сказка про темноту
Грамматическое послевкусие от прозы Александра Родионова складывается из двух ощущений: устная речь — и Платонов. Устная речь, записанная в своем потоке и расшифрованная, когда кажется, что невесть что происходит с логикой и грамматикой, когда утрата жестов, взглядов, пауз, то есть неотъемлемой части говорения, превращает осмысленное высказывание в нечто непривычное для письма и чтения, странноватое и потому невероятно привлекательное в своей мнимой аутентичности, — и жестокая работа с языком Андрея Платонова, который писал наоборот, как никто не говорит. Сдвиг, слом, конфликт слов, которые не должны в привычной речи встречаться друг с другом и которые могут встретиться только или совсем случайно, или абсолютно преднамеренно и заставить читателя застрять; пожалуй, даже проскочить по инерции, но вернуться. К примеру, Родионов пишет про бегство мимо шедшего персонажа с поля драки: «испугался, не разбились ли у него в восемнадцать лет зубы». Если представить себе эту реплику в контексте дружеского бахвальства победившего, рассказки на следующий день после махалова, — она может оправдать свою странноватость, к примеру, соответствующей иронической интонацией, пропущенными матерными словечками, сплевыванием, надлежащими жестами и паузами, чтобы прикурить и затянуться. На письме она приобретает платоновскую серьезность, мучительную неловкость, неудобство сопротивления языковой инерции — и возможность нарастить максимальную полноту информации о причине происходящего тут же, не выходя за пределы предложения и не накапливая лишних слов. И, между прочим, в этой случайно взятой фразе видна еще одна важная вещь: сценарии так не пишут. Потому что бегство этого мимолетного персонажа, который получил в полной темноте в зубы и исчез, и мы ничего, кроме устоявших в схватке зубов, и не увидели, не нуждается в такой «психологической разработке». Но — и в этом весь фокус — фраза не про этого персонажа писана. Она — про главного героя, который ее не произнес и даже не подумал, но это — его ощущение, если бы он мог его осознать; почти несобственно-прямая речь, где между автором-повествователем и героем, конечно, остается зазор, дистанция, но стремящаяся к исчезновению. В любом случае — это очень тесный мир. Мир одного человека, через трудное сознание которого пропускается все, что мы видим, и никакого другого мира не существует, вернее, у нас не очень-то получается исхитриться, чтобы отстраниться от персонажа и рассмотреть что-то самим.
В городе Хлебникова вздоху оставлено место.
Этот мир абсолютно герметичен. Герметичность распространяется на все объекты, так или иначе втянутые в повествование о герое. Что такое, к примеру, Волга, на берегу которой живет Леня из «Дорожных работ»? Вообще-то, это самая главная река России. Символ жизненной полноты и мощи. И национальной тоже. Как в песне поется, «Всюду жизнь привольно и широко, точно Волга, полная, течет». И еще поется: «И, как Волга, рекою могучей наша вольная жизнь потекла». И полно такого поется. Родионов весь этот национально-культурный контекст херит в третьем же по счету предложении: «Каспийское море — закрытый водоем, поэтому плыть по Волге никакого смысла нет, все равно никуда не выплывешь».
Выход за пределы герметичного пространства всегда сопряжен с сильным волнением и тревогой, всегда маркирован, герой должен сделать некое отчетливое и непростое усилие, чтобы освоить еще одного нового человека — и через него новый локус.
Леня заходит в автобус, чтобы ехать на работу: «Разные лица, между которыми он еще не заметил разницы». Потом кто-то «машет с предпоследнего ряда, ЕЩЕ далеко от него». Это незнакомый человек, и Леня пытается его идентифицировать для себя, усвоить: «запоминает, каких человек цветов и где сидит», потом еще один гносеологический шажок: «мужчина в чем-то синем и коричневом», еще немного вперед: «в болоньевой куртке и синем свитере», дальше лихорадочный рывок, информационный поток разгоняется и обрушивается на реципиента: «Леня решает, с бородой ли он, и запоминает, что с щетиной, на просвет коричневой, как пластмасса. Леня думает, злой ли он, и понимает, что по виду так не скажешь. Леня проверяет, хорошо ли с ним сидеть, и понимает, что, вроде, да»… В результате сам автобус усваивается как свое пространство только через усвоенного нового человека: это место, «где сидит этот мужчина в чем-то синем и коричневом». Но как только Леня принимает решение о том, что теперь «они друг друга знают», как только он начинает включаться в коммуникацию — не разговаривает еще, нет, не так скоро, но «слушает их разговор и улыбается, если что-то, что разобрал, может понять, а они видят это и ничего такого не говорят», и уже готов к тому что «если будут селить всех вместе, Леня будет с ними здороваться всегда с особенным отношением», — только что с такими усилиями пройденный путь усвоения, освоения и присвоения себе чужого кусочка реальности идет прахом: мужчина вылезает не на той остановке, где Леня. И герою не остается ничего другого, как вернуться домой — на нового человека, за которого он сможет зацепиться и вытерпеть жизнь в автобусе, у него уже нет сил.
Эта история повторяется еще раз, и еще раз, и еще; действительность всегда тревожна и требует от героя каждый раз усилия, и еще усилия, и еще усилия, и герой очень хочет стать своим в этой действительности, но ему всегда нужны время и силы для этого, не такое уж маленькое время и совсем не шуточные силы, чтобы привыкнуть, что теперь вот это вот тоже должно стать своим. В отличие от последующих персонажей Родионова, к концу повествования он вполне научается это делать — и каждая следующая встреча с новым становится проще, и, если можно так выразиться, технологичнее.
Вот Леня подходит к бригаде на дороге. Она отделена от знакомого мира треугольным дорожным знаком. «Леня перешел за знак» — и на какое-то время застрял в промежуточном пространстве между старыми своими и новыми чужими, которых надо осознать и принять: «Леня стоял с этими тремя копошащимися людьми между двух тротуаров, как в прозрачном стекле, потому что рядом был его дом и мимо ходили только его знакомые». Лене нужно время, поэтому «мужчины, слава Богу, сейчас работали». Но Леня очень старается и уже знает, как, поэтому достигает результата: «На поперечной дороге, которая шла рядом с домом и уходила в город, за перекрестком стояли трое оранжевых людей, которых он теперь знал. По тротуарам вокруг ходили другие, которых он знал». Которых он знал. Которых он теперь знал. Вот и все.

В фильме «Свободное плавание» Бориса Хлебникова мучительность пространства и его идентификации и освоения, вот эта несобственно-прямая речь отсутствует. Кино создает совсем другое пространство и другую парадигму ассоциаций: стоячая жизнь в провинциальном городке во всей полноте подробной повседневности — и подросток, который не очень-то понимает, что он чувствует, но совершенно точно хочет что-то делать, и сделать, и «быть кем-то по профессии». Нестыковка с миром совсем другая: кругом все маются, перебиваются, колготятся, устраиваются, строят козни и воздушные замки, причем расслабленно так строят, не шибко надрываясь, — а герой хочет чего-то внятного, осмысленного и последовательно и даже энергично движется к этой осмысленности. Почти аутичное нащупывание контакта с окружающей реальностью в сценарии трансформируется в классический роман воспитания, отличный роман, но с совершенно другим героем и совершенно другим образом реальности.
В следующем сценарии Родионова, «Сумасшедшей помощи», никакого своего пространства у героя просто нет. Идиллическая деревенская преамбула обрывается, практически не начавшись: «свинья рыдает и умоляет», но таки приносится в жертву — и вот Женя уже едет в Москву, вроде бы и вместе с другими работниками, но всюду оказываясь «от них отдельно» уже в поезде. Мегаполис, в котором он тут же теряется, — это апофеоз отдельности, фрагментарности, разорванности; город, который можно перечислить, и это будет исчерпывающим описанием: «белые сумрачные улицы, много вывесок, незнакомые ходят»; «белые стены, белые лампы, еда в далеких витринах-рефрижераторах и низкие голубые продавщицы», через запятую предметы и люди как предметы, вещи, обстановка, номенклатура… Даже те предметы, которые могут быть знакомыми, оказываются неожиданными и даже опасными, как яблоки, которые растут на бульваре, «мелкие, как вишни, и ядовитые, как выхлопы». Даже скучные панельные дома то изрыгают чудовищ — которые нападают, и бьют, и отнимают, и уходят обратно на свой балкон пить пиво, — то выстраивают свои горящие окна в тайные адские знаки — кто бы мог от них этого ожидать? И если ты не знаешь кода, то идентифицировать реальность оказывается невозможным — а вместе с ней и себя самого: «Он больше не человек, а непонятно кто»…
Самое частое слово — темнота.
Вергилий не просто водил Данте по преисподней, — он давал коды, расшифровывал знаки и аллегории, без устали толковал и просвещал. И только благодаря его умелому водительству нагромождение серного дыма, огня, льда, грязи, людских голов, туловищ, рук, ног, плача, хохота, криков — выстраивалось в космическое здание, вычерченное логикой и наполненное смыслом божественной справедливости. Городской ад оказывается страшнее, потому что его узники не особенно понимают, что замурованы, и живут себе в толще стен жестоко и беззаботно, и нет разумного способа объяснить, что происходит. Только отдельно взятые сумасшедшие видят все как есть и упираются.
Расклад на первый взгляд таков, что мобилизует к немедленному применению все возможные культурные архетипы и интерпретации: праведник в Содоме, маленький человек в гоголевско-достоевском городе-чудовище, романтический поэт в каменной цивилизации, Иванушка-дурачок в царстве Кощея Бессмертного, а также Дон Кихот и Санчо Панса, Робинзон и Пятница, Крокодил Гена и Чебурашка, далее по списку. Но, на наш вкус, если это и объясняет что-то, то на самом очевидном и скучном от предсказуемости уровне.
В этом сценарии Родионову удалась поразительная вещь, которую с некоторой степенью условности можно назвать реализацией метафоры. Если поэты, или философы, или журналисты берутся писать о городе, да еще столице — то так ведь и напишут: каменная тюрьма, мол, населенная узниками, которым нечем дышать и которым некуда деваться. Именно это и видят впрямую два главных героя — простодушный и сумасшедший. Простодушный и сумасшедший, два дурачка, ага, но как только мы делаем на это поправку и собираемся дистанцироваться от их точки зрения и увидеть вместо глаз чудовищ уличные фонари — как натыкаемся на женщину с пакетом в руке, которая просовывает туда, в крошечную дырку в цоколе дома, в темноту, в преисподнюю — хлеб. «Кто там сидит, кто живет там? Ее муж? Прячут его? Работает он там в чью-то пользу? Под боком, у нас! Плен!» Вытащенный на белый свет таджик с швейной машинкой подтверждает, что прячут, что работает в чью-то пользу, ну, и кто тут сумасшедший? И, между прочим, только ненормальному инженеру город открывает свои самые нежные и милые достопримечательности: «Пошли смотреть уток, расписная сберкасса, пантера и корова, трещинный дом, утки — легендарные достопримечательности нашего района, никто их не знает — только я! Печка, которая сама собой топится четыре года во дворике…» — вот она, поэзия и душа города, равно как и сияющие картонные звезды, наклеенные на фасад, а не ядовитые яблоки на бульваре и пластмассовые буквы, и это — реальность, а не галлюцинация, мы же видим и трещинный дом, и расписную сберкассу, и уток, и даже несуществующее уже чудо — засыпанную Лужковым лужу-море, к которой по старой памяти слетаются и слетаются птицы.
И все же, сколько бы ни было птиц и звезд, в городе, написанном Родионовым, камень довлеет, дыхание затруднено, в горло «не поступает достаточно воздуха». В городе Хлебникова вздоху оставлено место. Главным становится не страшное пространство страшной сказки, а банальная доброта, которая, конечно, тоже может быть безумно страшной, как в сцене поедания курицы или избавления отравленной героини от отравленных волос, — но и просто доброй. Инстинктивно доброй, от природы, тупо по Руссо, — когда инженер приводит замерзающего до смерти героя домой или когда его дочка, совершенно инстинктивно пытаясь защитить безумного отца от непрошенного гостя, все же не выпирает его на холодную погибель, а идет за очередной курицей, чтобы накормить, и поэтому можно жить, и можно дышать, и можно влюбиться, и выжить придушенному ужасом зрителю.

В отличие от предыдущих двух сценариев, в «Сказке про темноту» речь о пространстве сведена к нескольким словам. Есть место действия, их даже много: детская площадка, кабинет, танцевальный зал, квартира, курилка, улица, ментовский обезьянник, океан, даже немножко город, — но мы почти ничего не можем рассмотреть за действием и диалогом. А впрямую именно что несколько слов: о городе — «бледные улицы, и мятые дома, и мятые люди», об отделении милиции — «серенькая дверь», о доме — «единственная тарелка, единственные ложка, вилка, чашка», всегда слишком чистые, потому что их мало, и пустой альбом с прорехами на месте фотографий. О виде из окна, как то: квартира с мужчиной напротив, который смотрит на звезды, Багратик, убегающий маленьким таракашечкой, далекие отраженные в океане огни на далеком берегу.
Как будто прорва девяностых поглотила и не выплюнула, и нам остался только вакуум, безвоздушное пространство, легкие, заполненные болотной тиной.
Самое частое слово — темнота. Короткий кусок темноты ведет мимо обезьянника, в котором от темноты люди смелеют; от темноты вздрагивает золотой день и накрывается темнотой до конца осени; темноту можно отогнать, если включить свет, но ненадолго, потому что она всегда живет за окном; в темноте теряются обрывки слов; темноват свет свечек на столе, и даже горячий красный костер — темный. Одиночество героини какое-то оглушительное, как будто звуки, цвета, запахи вынуждены продираться сквозь преграды и теряют силы по ходу, и вроде бы в тексте полно слов и людей, может быть, даже слишком много, всяких, злых, нежных, грубых, смешных, матерных, но они нужны только для того, чтобы «хвастаться перед ней», а ее пространство — это длящаяся немота и темнота, которые никак не могут остановиться и все выкачивают и выкачивают воздух для дыхания, и пространство схлопывается в пустоту: «Мам, я хочу спросить, который час. Мама, потому что я хочу понять, сколько еще ночь продолжается. Папа! — Ей никто не отвечал, и когда она захотела послушать стену, то стены не оказалось, и по кусочку все, что было вокруг, стало исчезать, стоило только посмотреть не в ту сторону». Стоит Алисе сделать шаг наружу, навстречу кому-нибудь, как кто-нибудь тут же пускается врассыпную, улепетывает, шарахается, говорит обидное, поливает жиром из утятницы, прожигает окурком хрустальные туфельки. Но кто-нибудь, другой, нужен не просто так, он нужен, чтобы жить и выжить, и героиня снова пристает и пристает к реальности, не рефлексируя, не погибая после каждого провала, ее надежда светла и упряма и побеждает, услышав в финале «Ты мне на х** не нужна» как признание в любви. Зазеркалье беспросветно, но не безнадежно, и это дорогого стоит.
Фильм Николая Хомерики и вовсе получается кротким, нежным, почти ласковым, несмотря на то что весь сущий ад одиночества тут и страшен, и выразителен, и иногда, как в сцене с днем рождения, почти до физической боли невыносим. Вакуум заполняется не просто воздухом, но атмосферой, и вместо бледных улиц — длинные-длинные планы разноцветного тротуара и идущих по высоте героев, и сзади сопки, и океан. И вместо раздавленного в тайге неведомого Володьки — импрессионистский костер на фоне сияющей воды, и розовый закат на розовом теле и темном звездном фоне. И вместо убийственного отчуждения танцзала — нетрагическая ирония. И вместо темноты — свет и цвет. Но главное даже не это. Концентрированную речь Родионова Хомерики разрежает и разряжает паузами, специально предназначенными для того, чтобы перевести дух, отдышаться и героине, и зрителям, и перебивает каким-нибудь взлетом, или ветром, или солнцем (к сожалению, нет времени отдельно об операторе, но все же, но все же).
Приведем один пример. В финале сценария, как только Алиса говорит свое «пока, Димыч, я тебя люблю», а он в ответ немедленно произносит сакраментальное «А ты мне на х** не нужна», героиня «одна в темноте» уезжает в автобусе, а он «в темноте залезает в свою машину», и это конец. Некоторая надежда у нас, конечно, есть, но зыбкая, теряющаяся в темноте, накрывающей эту сцену вместе с читателем. В фильме героиня произносит свою реплику — и вот тут-то камера, вместо того чтобы повернуться к Димычу, все медлит и медлит, упираясь взглядом в спину уходящей Гели, и провожает ее, и смотрит, как она идет, легкая, почти танцуя, и точка зрения взлетает, и теперь героиня не отдельно от других, а идет вместе со всеми в любую сторону, как своя, и ни разу не темно, а наоборот, закат, — и все это время Димыч, как выясняется, сидит в своей машине, в потрясении и оторопи, и наконец, после того как мы вдоволь налюбовались героиней, камера вспоминает про него и оборачивается. Димыч уже может, по идее, сказать, но он молчит, и еще молчит, и еще чуть-чуть молчит, потом чуть улыбается, произносит свою фразу и включает зажигание. И вот это-то точно любовь…

Ни один режиссер, работающий со сценариями Родионова, не выдерживает чудовищной концентрации отчуждения, что заполняет все созданное сценаристом пространство; когда внешний мир почти недоступен и сделаться в нем своим требует столько усилий, что на это тратится все что ни есть, и так трудно сделать преграду проницаемой, а воздух — существующим. Человеку хочется дышать совершенно инстинктивно, непроизвольно, но что-то такое происходит здесь и сейчас, что отдышаться-то иногда можно, а дышать постоянно — нет, и захлебывающееся, задыхающееся, бессильное субъективное пространство героя становится новым образом современности. Как будто прорва девяностых поглотила и не выплюнула, и нам остался только вакуум, безвоздушное пространство, легкие, заполненные болотной тиной. И это ощущение остается после сценариев и фильмов самых разных авторов, которые не пересекаются ни в чем другом.