Братская колыбель — Два фильма об одном поколении
К юбилею Виктора Косаковского публикуем текст Константина Шавловского из 75-го номера о том, как постсоветская документалистика переосмысливала советское наследие.
В 2023-м году Виталий Манский признан Минюстом РФ «иностранным агентом». По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Что такое постсоветское кино? Если не брать очевидные хронологические рамки (1991 — настоящее время), на него сложно ответить, не разобравшись, о каком «советском» идет речь. К чему ставится приставка «пост»? На этот вопрос есть несколько ответов, и все они в равной степени имеют право на существование.

Что такое постсоветское кино: к постановке проблемы
СЕАНС — 75
С точки зрения зарубежного киноведа, советское кино — затонувшая Атлантида. Фильмы ушли под воду вместе со страной. Это касается как раннесоветского периода, так и второй половины XX века, и даже позднесоветского кино, хотя с сохранностью тут все в порядке, и многие авторы живы. Почти каждое режиссерское имя из пантеона советской классики второй половины XX века, кроме Тарковского и, возможно, Михалкова, — чревато открытием. Совсем недавно за рубежом прошли несколько ретроспектив Марлена Хуциева (слава богу, при жизни) и Ларисы Шепитько. Но режиссерские вселенные других классиков — Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова, Георгия Данелии, Андрея Смирнова, Ильи Авербаха — по-прежнему почти неизвестны; на узнаваемость этих режиссерских имен не влияют даже награды главных кинофестивалей мира.
Допустим, у западного зрителя советское кино ассоциируется в первую очередь с кинематографом революционного авангарда, но ведь для тех, кто родился и вырос в географических границах бывшего СССР, советское кино — это, конечно, то, что показывали по телевизору. Хронологически «советский кинематограф» для них начинается в лучшем случае с оттепели, а пик его узнаваемости, цитатности и популярности приходится на период застоя. Поэтому, говоря о советском кино, большинство зрителей постсоветского пространства имеют в виду совсем не миф революционного кино, а позднесоветские комедии и мелодрамы. А значит, именно к этому кино, где царят Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай, мы и ставим приставку «пост». В этом уютном мире добрых семейных фильмов «постсоветское» превращается в ностальгию по советскому (в исторической реальности едва ли существовавшему).

Такой взгляд на постсоветское кино можно было бы определить как аффективный или ностальгический (если вслед за Светланой Бойм понимать ностальгию как «посредника между коллективной и индивидуальной памятью»1), поскольку здесь важен статус зрителя, который является живым свидетелем или реципиентом «советского».
1 Бойм С. Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. 2013. № 3.
Существует ли постсоветский взгляд и чем он отличается от взгляда советского?
Есть и другой способ посмотреть на постсоветское кино. Например, со своим условно советским прошлым — если понимать «советское» как определенное слово-состояние, актуальное и для стран восточного блока, — работают многие фильмы румынской новой волны. И тематически, и визуально. Феномен румынской волны, во многом определивший развитие кинематографа нулевых и десятых, до сих пор не разгадан: как в небольшой стране с не очень сильной кинематографической традицией мог возникнуть столь мощный и актуальный кинематограф? И почему подобная волна не возникла в российском кино, ведь интерьеры и типы человеческих отношений, которые показывает, допустим, Кристиан Мунджиу в фильме «Четыре месяца, три недели, два дня», знакомы и понятны всем зрителям постсоветского пространства?

Можно искать ответы в самой структуре постсоветского пространства. Советская империя, как и любая другая, состояла из метрополии, колоний и доминионов. И если постсоветский дискурс рассматривать как постколониальный2, то вопросы, почему работа с постимперской травматикой в румынском или болгарском кино идет совсем по другому сценарию, нежели в российском, автоматически снимутся. Россия как метрополия до сих пор находится где-то между перестроечными версиями «Покаяния» (и фильмом, и мифом именно что советскими) и постимперским реваншизмом, который современники прочитали в 1997 году в фильме «Брат», не увидев в нем, к сожалению, ничего другого. Такой взгляд на постсоветское кино можно было бы условно назвать линейным или историческим — поскольку речь идет о кино, которое так или иначе имеет дело не с образами советского кинематографа, а с различными интерпретациями советского опыта.
2 Cм. специальный выпуск «Постсоветское как постколониальное» (Новое литературное обозрение. 2020. № 161).
С конца перестройки до середины 1990-х кино было увлечено освобождением от всевозможных табу, наложенных на него советской властью.
Есть и третий путь, который кажется наиболее продуктивным для постсоветских визуальных исследований. Назовем его (опять же с определенной долей условности) деколониальным3. Это попытка увидеть в кино, снятом на постсоветском пространстве, особый визуальный код, призраки и признаки советского, которое можно было бы определить как «(не)видимое отсутствие». Постсоветским здесь можно назвать взгляд на мир, из которого ушло то, что определяло его существование, хотя отсутствие можно читать по оставшимся следам. Под визуальными следами и знаками советского в постсоветском, разумеется, следует понимать не только вещественный мир, но и все, что этот мир населяло и определяло — лица, ракурсы, интонации, жесты. И тогда постсоветское кино — это постоянно убывающая вселенная, где следы со временем исчезают, а знаки теряют или меняют свое значение. Иными словами, постсоветский мир — это мир завершившегося представления, где акторы предоставлены сами себе и вольны помнить или не помнить о самом представлении в каждый отдельный момент своего существования. Этот мир одновременно осязаем и неуловим для взгляда — поскольку для того, чтобы его описать, в том числе с помощью кино, необходимо быть его частью (говорить за себя).
3 Как и в случае с «аффективным», не имеющим прямого отношения к теории аффекта, мое определение «деколониального» взгляда на постсоветское кино прямо не связано с деколониальной мыслью, скорее, это попытка подключить деколониальную оптику к ревизии постсоветского кинематографа, нащупать проблему двойственной идентичности, связанной с реколонизацией постсоветского общества после развала СССР.
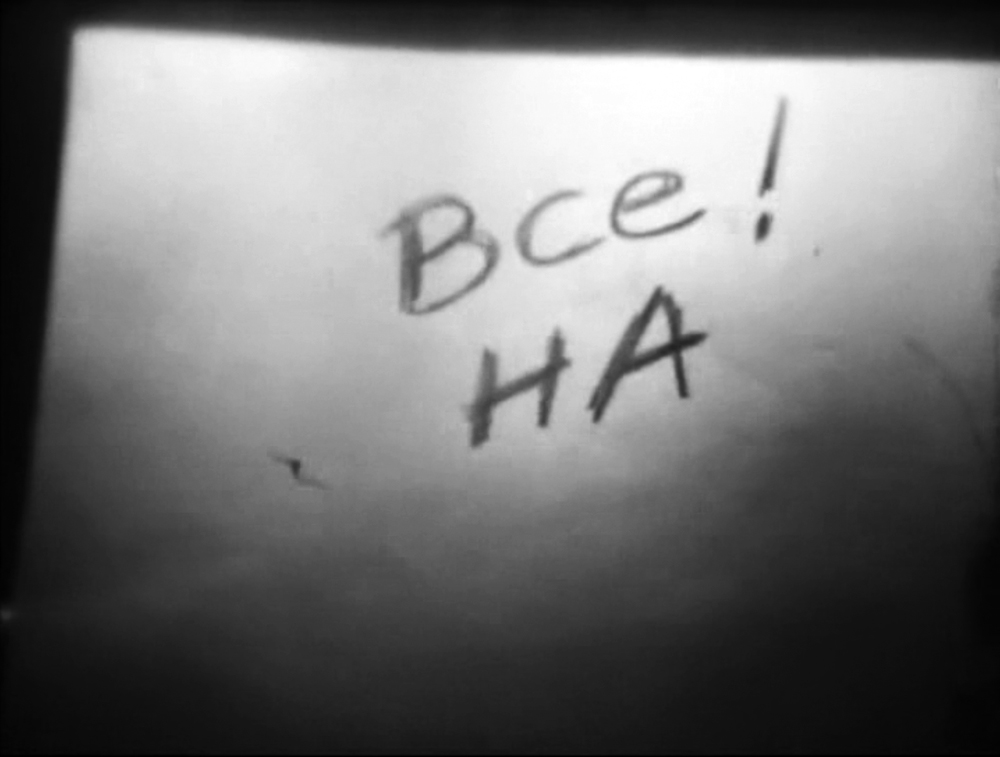
И тут мы неизбежно упираемся в проблему взгляда. Если мы имеем дело с аффективным или линейным определением постсоветского кино, то эти оптики позволяют нам увидеть и определить достаточно четкие границы постсоветского. Но если мы подключаем к социально-политическому измерению деколониальную оптику, чтобы за руинами империи увидеть человека с его множественными идентичностями в парадигме от своего до иного, то главным и единственным ключом к прочтению постсоветского становится личность того, кто смотрит.
Парадокс, но, работая с частными хрониками, авторы фильма проигнорировали именно их «частность».
Существует ли постсоветский взгляд и чем он отличается от взгляда советского? Не оставляет ли инерция взгляда нас в некоем непреодолимом «советском», если мы были ему свидетелями, а если не были — то можно ли говорить о постсоветском, или мы имеем дело уже с не-советским, вне-советским?
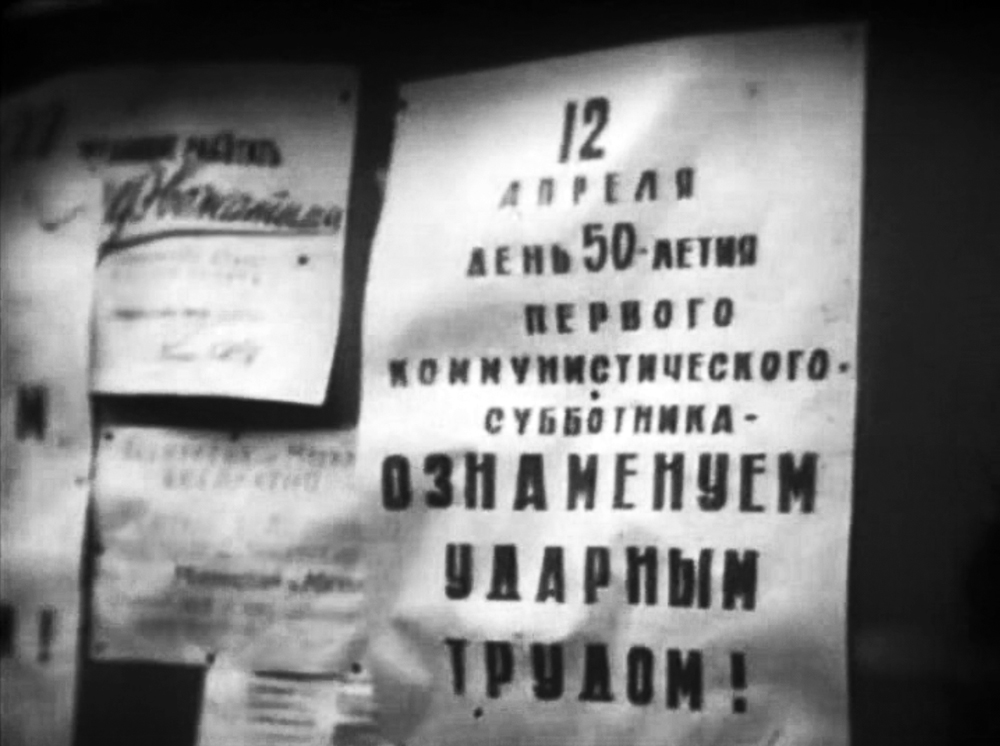
Обозначив этот круг вопросов, я предлагаю обратиться к двум ключевым документальным фильмам 1990-х, посвященным антропологии постсоветского человека. Оба сняты живыми классиками документального кино — Виктором Косаковским и Виталием Манским — с разницей в два года и являются этапными в их фильмографиях: это «Среда. 19.07.1961» (1997) и «Частные хроники. Монолог» (1999). Режиссеры относятся к одному поколению: Косаковский родился 19 июля 1961 года, Манский — 2 декабря 1963-го. Оба выпустили фильмы в свои тридцать пять лет, и каждый по-своему выясняет отношения с собственным поколением — последним взрослым советским поколением (на момент распада СССР детям, родившимся в 1960-е, было от 30 до 20 лет).
И как тут не вспомнить Александра Расторгуева, одного из главных публичных оппонентов Виталия Манского
Оба фильма сняты во второй половине 1990-х, для России постсоветский кинематограф, как мне кажется, начинается именно в это время, не раньше: с конца перестройки до середины 1990-х кино было увлечено освобождением от всевозможных табу, наложенных на него советской властью. Освобождение от запретов, как прямое — снять то, что раньше было непредставимо, так и косвенное — перестать мыслить в системе запретов и смотреть с точки зрения советского цензора на все, что попадает в кадр, — длило инерцию «советского» в кино (за редкими исключениями), заморозив рефлексию.

«Частные хроники. Монолог»: подмена голоса
В «Частных хрониках» Виталий Манский собрал любительскую советскую кинохронику, снятую на 8-миллиметровые камеры, появившиеся в СССР в конце 1950-х. Из 5000 часов материала был смонтирован полуторачасовой фильм, где монолог, написанный писателем-концептуалистом Игорем Яркевичем, читает актер Александр Цекало под музыку композитора Алексея Айги. Яркевич придумал героя, родившегося 11 апреля 1961 года, за день до полета Юрия Гагарина в космос, и погибшего 31 августа 1986 года на пароходе «Адмирал Нахимов». Автобиографический загробный монолог написан «поверх» видеоряда.
Парадокс, но, работая с частными хрониками, авторы фильма проигнорировали именно их «частность». Домашняя хроника была типологизирована, визуальное строго подчинено концепту (расхождения нивелированы), и массив хроникального материала оказался монотонной иллюстрацией к вымышленному монологу безымянного героя. Специфические советские триггеры смонтированы в тематические ряды: от купания и кормления младенцев (разумеется, манной кашей с комками) до бесконечных застолий и отдыха в Крыму. Таким образом, перед зрителем открывается панорама жизни типичного «совка» (это слово ни разу не произносится, но витает над фильмом как дух над водой, которой с рождения боится выдуманный Яркевичем и Манским герой).
Косаковский выстраивает новые, горизонтальные отношения с реальностью, уравнивая себя со своими героями.

Зачем же Манскому понадобились «частные хроники»? Был азарт первооткрывателя — проект подавался как первый в мире фильм, смонтированный из любительских записей. Автор складывает чужие частные хроники в сплошную вереницу свидетельских показаний, присоединяя их к личному обвинению советского государства в унижении человеческого достоинства. В 1999 году такая мысль едва ли была прогрессивной, но авангардный коллажный метод позволял критикам говорить о новаторстве режиссера. Идеологическими оппонентами Манского становятся «Старые песни о главном», «Намедни» и другие телепроекты, ностальгически переживающие советское время. В «Частных хрониках» Манский сводит личные счеты с советским проектом, а материалы реальных хроник использует как улики, при этом содержание этих хроник, которое не вписывается в концепт, его не особенно интересует.
«Частные хроники» вызвали полемику, но поводом для нее послужили упреки фильма в клевете на образ советского человека и советскую власть, что, разумеется, самим авторам было только на руку. Критики автоматически становились похожими на учительницу главного героя, остроумно наделенную фамилией Подвиг, которая рассказывала первоклассникам на сентябрьской линейке 1968 года о борьбе с внутренними врагами, выходящими на площадь. А призыв авторов посмотреть на недавнее советское прошлое без сентиментального ностальгического умиления, вспомнив тошнотворный официоз, которым была пронизана частная жизнь советского человека, считывался еще лучше.

«Среда» как будто дает смерти выходной
Эта точка зрения на советское прошлое была и остается довольно популярной, но спорить или соглашаться с ней не входит в задачи этого текста. Нас интересует сам режиссерский метод. В «Частных хрониках» режиссер, казалось бы, выбрал благородную миссию — воскресить единственное неподцензурное свидетельство эпохи, доступное людям, ее населявшим. Но вместо того чтобы дать голос тем, кто был его лишен, режиссер отнял его повторно, теперь уже навсегда: «Частные хроники» не только открыли, но и, к сожалению, закрыли тему любительских советских хроник в большом кино, во всяком случае за двадцать лет к ним больше не обратился ни один режиссер. И как тут не вспомнить Александра Расторгуева, одного из главных публичных оппонентов Виталия Манского, называвшего монтажные фильмы, основанные на хроникальных материалах, повторным убийством мертвых4. Текст Яркевича почти не взаимодействует с материалом, а иногда прямо с ним конфликтует: это читается как «постконцептуальный» жест авторов, выбравших для своей истории «ненадежного рассказчика». Защищая фильм, Зара Абдуллаева на страницах «Искусства кино» убедительно пишет портрет этого рассказчика и перенаправляет претензии «близоруких» критиков от Манского с Яркевичем к выдуманному ими безымянному провинциальному выпускнику Института культуры5.
«Частные хроники» — произвольное обобщение индивидуального опыта, сведение множества частных жизней к одному художественно-публицистическому нарративу. Режиссер снисходительно «хоронит» героя через год после начала перестройки, подразумевая, что места для него в новом мире нет и не будет. Вечная маета и онанизм как единственное кислое пятно счастья, выпавшее на долю целого поколения. Доказательной базой этому приговору в фильме Манского служит многообразие частных жизней советских людей. В СССР за них говорил диктор советской кинохроники, в 1999 году диктора сменил голос Александра Цекало. Манский проник туда, куда не могла проникнуть даже советская власть: голос в советской кинохронике был голосом «бога», от которого люди все же могли спрятаться в свои частные жизни (о чем рассказывает этапная для изучения антропологии советского человека книга Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось»). В «Частных хрониках» закадровый голос — это акт насилия над экранной реальностью, из которой буквально выбивают нужные свидетельские показания. Это присвоение голоса, фальсификация свидетельства превращает «Частные хроники» из документального фильма в ангажированное мокьюментари.
Опыт «Частных хроник» — яркий пример того, как попытка ревизии советской истории в постсоветском кино, предпринятая властной фигурой режиссера, нивелирует сложность мира, в духе новой колониальности стирая различия (ведь именно так поступали и колонизаторы с прошлым и традицией колонизируемых народов).
4 «Натуральное кино — это священная война с культом теней, это стратегия запрета на повторное убийство мертвых. (Последняя формулировка имеет историю: ее неожиданно, прямо в моем присутствии, изобрел режиссер Дмитрий Сидоров, автор тонкого и глубокого фильма «Взгляды. Феноменология». Он вяло втолковывал американскому критику Майклу Факсу, что нереальные, неживые люди, ставшие тенями вековой синематеки, втянутые в дурную хроникальную вечность мертвой воронкой кинокамеры, как и следы разложения эмульсии, — все только тлен и пепел. Монтировать из их целлулоидных конвульсий фильм — это все равно что почему‐то хотеть достать из могилы безымянный труп и убить его еще раз)» (Расторгуев А. Действительность и натуральность реального кино).
5 «Приходилось слышать, что все в фильме Манского было бы еще ничего, если б не текст. Не согласна. На самом деле, это замечательно стилизованный текст не столичного жителя и не провинциального, а окраинного. К тому же выпускника Института культуры. Хуже некуда. Точнее, этот окультуренный текст вполне соответствует межеумочному («слободскому») состоянию героя. Его сказовая — внелитературная — устная речь представляет вроде бы человека ниоткуда, но насквозь советского. Усматривающего — уже с другого берега — абсурдные закономерности своего существования. И пытающегося его объективировать в монологе, который одушевил Александр Цекало. При этом Манский вкрапляет в воспоминания своего героя чужие голоса рассказчика анекдотов про армянское радио и учительницы по фамилии Подвиг, иронизируя таким образом над радетелями документального чистоописания реальности» (Абдуллаева З. Водобоязнь // Искусство кино. 1999. No 12).

«Среда. 19.07.1961»: речь времени
За два года до фильма Виталия Манского вышла картина Виктора Косаковского «Среда. 9.07.1961». Концептуальный жест Косаковского состоял в том, чтобы снять на пленочную камеру всех людей, родившихся в Ленинграде в среду, 19 июля 1961 года. В тот день в метриках было зафиксировано появление на свет 49 девочек и 51 мальчика, одним из которых был будущий режиссер фильма. Косаковскому удалось найти и снять 70 героев и героинь — при хронометраже фильма в 90 минут это чуть больше минуты на человека. Некоторым, впрочем, уделено всего лишь несколько секунд. Есть и сквозные герои — например, пара наркозависимых, ожидающих рождения ребенка.
В отличие от Манского, который заранее знал, к чему приведет его документальное исследование, Косаковский отправился в путешествие без обратного билета. Его рассказы о съемках «Среды» и фантастическом материале, не вошедшем в фильм, воспринимались критиками как одно из «расширений» картины. «Среда» — это фильм-поиск, задачи и метод которого проясняются непосредственно в процессе его просмотра.

Удерживая строгую концептуальную рамку, Косаковский отказывается подменять документальное содержание фильма собственной интерпретацией. Точнее, в фильме одновременно присутствуют два нарратива, два модуса высказывания: вертикальный, где автор выстраивает монтаж по законам классической драматургии, заканчивая фильм, как Терренс Малик, съемкой с «точки зрения бога» (пятиминутный полет камеры над крышами Петербурга в предфинальной сцене), и горизонтальный, где драматургия каждого отдельного эпизода не срежиссирована, а словно схвачена камерой врасплох.
Если Манский говорит за чужое время, то Косаковский возвращает времени собственный голос.
Виталий Манский красноречиво назвал свой фильм монологом. «Среда» же снималась в трудном диалоге с реальностью. Неслучайно Косаковский едва ли не раньше всех режиссеров-документалистов его поколения решился выйти из-за камеры, став героем собственного фильма. Словно нарушая негласные табу профессии режиссера-документалиста, которая так же, как и жизнь, обрушилась и превратилась в руины, он снимает смерть своей матери и рассказывает о своих детских страхах, направляя камеру на себя и своих близких. Косаковский выстраивает новые, горизонтальные отношения с реальностью, уравнивая себя со своими героями. И во многом благодаря этому его «разбитое» временем поколение (критики из условно консервативного лагеря упрекали автора в чернухе, которую он снимает на потребу западным кинофестивалям) неожиданно обретает в фильме собственный голос, звучащий помимо и поверх авторской надстройки. Цифры статистики — 19.07.1961, 51 мальчик, 49 девочек — превращаются в лица и судьбы, на пленке оказывается запечатленное время «постсоветского», его следы в каждом кадре.

В «Среде» Косаковский ведет визуальную перепись душ, и каждый, кто на несколько секунд оказывается в кадре, обретает не просто плоть, кровь и судьбу, но и масштаб героя кинематографического фильма. Как заметила критик Виктория Белопольская, фильм снят преимущественно на общих планах6 — режиссер не разглядывает лица, а портретирует человека в среде его обитания. Но делает это не как антрополог-ориенталист, для которого герои — объекты исследования. Художественное исследование Косаковского, напротив, наделяет каждого героя субъектностью — ест ли он мороженое, крутит баранку или рубит свиную лопатку на кухне.
Ход кинематографической мысли Косаковского перпендикулярен идее Манского. В «Частных хрониках» режиссер, имея в руках свидетельства приватной жизни множества людей, нанизывает их на нитку придуманного им сюжета, навязывая материалу свое понимание советской истории, лишая его того единственного, ради чего он и был создан: личного взгляда, не ангажированного ничем, кроме факта проживания частной жизни. Косаковский за неразличимым и случайным множеством (сто людей, родившихся в один день) видит несводимые к одному знаменателю судьбы. В «Частных хрониках» у автора есть ответы на все вопросы, которые он перед собой поставил (материал подогнан под заранее известный автору результат). Косаковский тоже отвечает на собственные вопросы, но ответы рождаются в буквальном смысле в ходе осуществления замысла, а запечатленное время формулирует свои собственные смыслы. Хрестоматийную фразу Кокто о том, что кино снимает смерть за работой, в случае Косаковского можно было бы перевернуть. «Среда» как будто дает смерти выходной, противопоставляя тотальному коллективному забвению и посмертной приватизации памяти идеологией — появление на экране пространства и времени отдельного, частного человека. Снимая длинными кадрами короткие встречи с ровесниками, режиссер показывает не только пространство своих героев (которое может быть как частным, так и общественным), но и схватывает их индивидуальное время. Сводит его в симфонию постсоветской эпохи, показывая, как стрелки множества часов, начавшие путь из одной (советской) точки, разошлись в разные стороны.
6 «Этот фильм программно не концентрируется на лицах. Стихия Косаковского — движения, походки, сутулости, то, как падает свет… — трогательные индексы уходящего времени. Действительно великое «Взгляните на лицо» было порождением времени исторического, времени исканий в направлении «социализма с человеческим лицом» и потому — поиска лиц как таковых. Косаковский же живет в физическом и социальном времени, где все определяется факторами чисто цивилизационными — например, властью медиа. Косаковский зафиксировал в «Среде» конец мифа лица в условиях жесткой социальности и социальных иерархий: лица в телеэру более не свидетельствуют. Даже почти точная цитата из «Жертвы вечерней» А. Сокурова — толпа, проходящая перед камерой в момент каких‐то праздничных народных гуляний — одни лица, одни крупные планы, — будто настаивает: отвернитесь от лица. Она совсем другая, эта толпа, это другие лица — не такие, как у Сокурова. Отвернитесь от лиц, смотрите на движение. Оно важно. Не портрет — течение времени. Не мессианское диагностирование духа толпы — ее движение из времени во время» (Белопольская В. Рожденные 19 июля. «Среда. 19.07.1961», режиссер Виктор Косаковский // Искусство кино. 1998. No 1).

«Среда» — фильм о том, что (постсоветское) время — нелинейно, его не подстричь секатором замысла, как деревья на стрелке Васильевского (занятие одного из героев «Среды»). И оно в фильме может говорить за себя. В этом онтологическое различие методов работы с материалом Манского и Косаковского: если Манский говорит за чужое время, то Косаковский возвращает времени собственный голос. В «Среде» речь времени — не только и не столько о чуде рождения (об этом говорит как раз автор), сколько о веществе проживания, его видимой и невидимой фактуре.









