Непривычная Россия. Молодость в многоэтажках
В материале упоминается Юрий Дудь, в 2022 году признанный Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны поставить читателя об этом в известность.

Фотография Никиты Павлова. 2011
Вышедший поздней весной 2018‑го альбом певицы Монеточки «Раскраски для взрослых», мгновенно превративший ее в поп‑культурный феномен национального масштаба, начинается с песни «Русский ковчег»: это не главный ее хит, но программное заявление, что‑то вроде манифеста. Это песня про Россию, совершенно не похожая на все известные песни про Россию. В ней нет светлой грусти, лихости и удали, заламывания рук и разрывания рубахи. То место, на котором в казенной патриотической лирике находятся «квас‑иконостас‑Михайлов Стас», у Монеточки занимает ирония, дистанция по отношению к предмету. Она перечисляет приметы неказистого российского бытия, что называется, без гнева и пристрастия: она не впадает от них в ужас и не заливается слезами умиления. «Непотопляемую отчизну дьяволу не уложить на лопатки» — 20 лет назад такая строчка могла встретиться разве что в песне «Инструкции по выживанию», сегодня ее поет 20‑летняя девушка из Екатеринбурга, и понятно, что она это не всерьез, но вообще‑то всерьез. В какой‑то момент музыка прерывается нестройными фанатскими криками «Россия! Россия!»; говорят, на концертах зал скандирует это слово хором — и в этом хоре определенно слышится какое‑то новое настроение. Не хмельное фанатское, не агрессивное патриотическое, не картонно‑лубочное — другое.

Клип Монеточки на песню «90-е»
Двадцатилетнюю Монеточку называют «голосом поколения», что, конечно же, преувеличение: подходящее ей по возрасту поколение — разное, изрядная его часть с куда большим удовольствием слушает нечто более оторванное и разухабистое, Элджея или Фейса, из которых не выведешь никаких поколенческих обобщений, — кроме того, что подросткам во все времена хочется сломать лавочку, разбить лампочку, физически ощутимым образом предъявить свою крутизну. Даже там, где почва для обобщений существует, обобщения будут наверняка неточны, — но все же, глядя на людей, аккумулирующих в себе массовую любовь, можно что‑то понять о природе этой любви. Дело же не в том, что Монеточка, например, лучше всех поет, а Юрий Дудь хорошо берет интервью — в природе их успеха есть вещи на порядок выше. Так вот, Дудь. Помимо того, что он спрашивает своих гостей о том, о чем давно не принято спрашивать на публике — о деньгах, сексе или Путине, — за ним тоже стоит какое‑то новое чувство, и оно опять же имеет отношение к России. Дудь очевидно не космополит, ему нравится русская музыка и русское кино, его гости интересны ему в том числе потому, что они составляют вместе с ним какую‑то общность, и в этой общности наиболее заметны. Его отношение к этой общности — бодрое, честное и трезвое, но все же это в первую очередь принятие. В инстаграме Дудя, который сам по себе — влиятельное средство массовой информации, есть постоянный хэштег #за***сь, которым автор отмечает достойные похвалы явления российской жизни. Перечень этих явлений практически ни по одному пункту не совпадает со списком «поводов для гордости» условного Минкульта или Первого канала; взгляд Дудя гораздо сильнее локализован и замечает вещи, которые существуют вне системы патриотических координат федеральных СМИ, — космически выглядящий парк рядом со стадионом в Краснодаре, ироничный рекламный ролик Ярославля, затейливое футбольное граффити в Бронницах, опять же, певица Монеточка. В его, по виду, хвастливом пацанском хэштеге нет ни истерического самовосхваления, ни гневного отторжения, это что‑то вроде знака качества, которым автор отмечает явления окружающего мира: хорошо, что есть и такое. Из всех постов, снабженных пометкой #за***сь, складывается образ какой‑то непривычной России — не униженной и не встающей с колен, не телевизионной и фейсбучной — России очень знакомой и все же совсем другой.
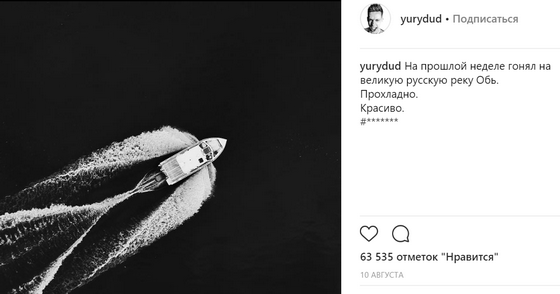
У этой России есть свои исторические корни, и Дудь, сознательно или нет, месяц за месяцем выстраивает ее пантеон. Его точка отсчета, время первотворения — девяностые. В его оптике это не «лихое», «бандитское» десятилетие, возвращения к которому нужно всеми силами избежать; это время ярких людей и сильных поступков, эпоха богов и титанов, страшная и захватывающая, к которой невозможно вернуться хотя бы потому, что мы, наследники, оказались их недостойны. Бодров, Балабанов, Шевчук, первая чеченская, русское MTV — это вовсе не тот ряд, который приходит на ум, когда мы говорим о «национальном достоянии» или «культурном наследии», — но для поколения зрителей Дудя наследие и достояние складывается именно из этих явлений и фигур, и никакой единый учебник истории не способен этому помешать.
Девяностые в свой срок вошли в моду, повинуясь вращению колеса ностальгии, но кажется, не собираются из нее выходить, и это никак не связано с попытками их сознательно «перепозиционировать»: футболки с горящим Белым домом вошли в молодежный обиход до и помимо «Ельцин‑центра», и не факт, что его худсовет эти принты бы одобрил. С эстетикой «панелек и спортивок» работает существенная (и не худшая) часть русской поп‑музыки — от Хаски до Макса Коржа, еще одна значительная ее часть эксплуатирует звук и настроение танцевальной попсы 1990‑х. Для молодого русского кино 1990‑е — это естественная среда обитания, ранняя Буланова звучит едва ли не в каждом втором фильме, в самом разном кино, от «Тесноты» до «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — 1990‑е выступают уже не родовой травмой, которую нужно проговорить и через это преодолеть, но почти природным, натуральным ландшафтом, который сформировался в момент творения российской вселенной и пребудет с нами навеки. Дизайнер Гоша Рубчинский — икона русской моды нового поколения — устраивает мировую премьеру новой коллекции именно в «Ельцин‑центре»; показ завершается песней «Гудбай, Америка»; для Рубчинского очевидно и место, и песня — не политическая декларация, но эстетический жест. Несколькими годами раньше он сделал коллекцию вещей с принтами из картин Тимура Новикова; и это тоже не было ностальгической причудой — Рубчинский последовательно выстраивает свой образный мир, и Новиков с «Наутилусом» в нем существуют на равных правах с панельными многоэтажками и школьными спортзалами (привычными интерьерами его съемок). Давайте назовем уже слово полностью — это русский мир; не нарисованный, из телевизионной картинки про Крым и Олимпиаду, а самый знакомый и осязаемый, данный нам в ощущениях.

Клип Хаски на песню «Панелька»
Дудь, Монеточка, Хаски, Рубчинский, Кантемир Балагов — при всем несходстве жизненных и творческих стратегий, это люди одного поколения, которые по‑разному заняты тем же делом, и в этом деле они, как велит неумолимый закон природы, отрицают опыт прежнего поколения, отталкиваются от него, чтобы уйти совсем в другую сторону. Возьмем для примера — да что угодно, те же панельные многоэтажки. Поколение 2000‑х как бы говорило: многоэтажки это ужасно. Давайте их снесем и построим на их месте новый квартал по проекту Херцога и де Мерона. Или разукрасим их модно выглядящими граффити. Или как минимум проложим вокруг них велосипедные трассы и откроем на первых этажах кафе. Многоэтажки — это то, что надо преодолеть, надстроить над ними что‑то вроде небесного Лондона. Поколение 2010‑х, видя многоэтажки, говорит: о, многоэтажки, это же здорово. Это отличная, брутально выглядящая штука; это жестко, это сильно, в этом много драмы и даже поэзии, это наша память, это то, из чего мы созданы — и вообще‑то эти многоэтажки достойны того, чтобы осознать их как часть своей идентичности и даже как повод для гордости: это такие многоэтажки, что знаете, ни у кого больше таких нет.
В них есть своя красота — но эта красота рождается через тяжесть, трагедию, травму, врожденную неуютность и неправильность этого места. И именно в силу тяжести и неправильности это место достойно — давайте назовем уже слово полностью — любви. В тот момент, когда официальная пропаганда, казалось бы, окончательно дорисовала сияющий образ военно‑православной державы, новое поколение незаметно для нас, и может быть, даже для самих себя придумывает новую Россию.
Читайте также
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
Перемещенные города, перевернутые смыслы
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана
-
Szerencsejáték Támogatás







