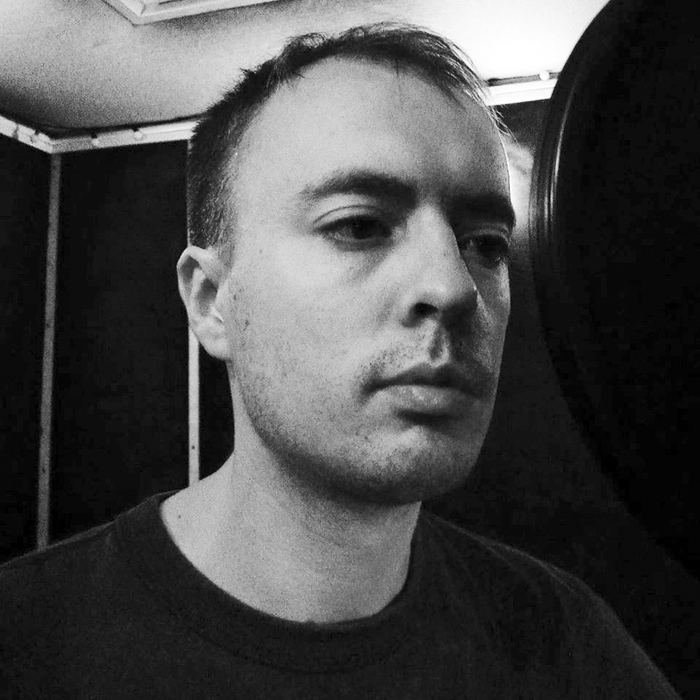Кирилл Михановский: «К третьему акту мы лежали в луже крови»

В фильме герой Максима Стоянова, аферист Дима постоянно пробует открыть банку с домашними соленьями, но как это и бывает с бабушкиными консервами, она не поддается никаким усилиям. Вы знаете, что в таких случаях стоит покатать банку крышкой по столу?
Разумеется, я знаком с процессом открывания банок. Это эффективный подход к решению проблемы. Однако Дима упрям: он мог бы найти более ловкий способ, но для него это уже был вопрос принципа. Наш французский цветокорректировщик, насмотревшись картины, тоже объяснял, как открывать банки. В другом фильме покажем.
Начнем с места действия. Висконсин — среди наиболее редко снимаемых штатов в американском кино. Расскажите, как жизнь в этом месте на вас повлияла? Вы все еще живете там?
Сейчас я нахожусь во Франции. Моя семья обосновалась в Висконсине в 1990-х. Я довольно быстро уехал в Лос-Анджелес, затем перескочил в Нью-Йорк, где поступил в New York University Graduate Film School, фактически это была аспирантура. Потом меня мотало по миру. Фильм, которым я занимался, развалился, и я отправился зализывать раны в Мексику. Там мне было неспокойно, и я приехал поесть маминого супа в Милуоки. Потом произошел второй дубль того фильма, и второй провал уже окончательно меня добил. Я познакомился с американским драматургом Элис Остин, и через год пребывания в Милуоки возникла идея снять небольшой фильм о городе, который стал бы персонажем.
Режиссеры должны снимать о том, что так или иначе пережили сами.
Вы правы, штат Висконсин очень редко появляется на большом экране. Милуоки практически никто не снимает, а когда снимают, то выходит неинтересно. Меня же вдохновил именно город — некоторые вещи, послужившие толчком к написанию сценария, произошли со мной именно здесь. Но никто финансировать кино в Милуоки не хотел. Почему нужно сидеть в этой дыре, а не перенести действие в Нью-Йорк? Во многих штатах США есть субсидии, стимулирующие развитие местного кинематографа. Например, на каждый вложенный доллар в Нью-Мексико вам возвращают 40 центов. То же самое в Новом Орлеане, в Нью-Йорке. А в штате Висконсин мало того, что холодно и неинтересно, так еще и ничего не стимулируют. Для нас это стало принципом, как с этой банкой. Я остро чувствовал, что мы предадим дух картины, если перенесем место действия. Это вопрос веры, мистики — того, что в кино и должно быть. И мы отстояли свою позицию. Но поскольку так получилось, что картина нас держала годами, когда меня спрашивают, где вы живете, я говорю: «Пока картина не доделана — в Милуоки».

В 1990-е вы сами работали водителем на медицинском транспорте. Но вы просите не называть фильм автобиографическим. Насколько ваш опыт был похожим? Или это просто некая удобная рамка для истории?
Это фильм не автобиографический, а личный. И для меня, и для Элис. Назвать «Гив ми либерти» автобиографическим значило бы упростить восприятие. Это не мой «Амаркорд». Режиссеры должны снимать о том, что так или иначе пережили сами. Необходимо понимать и любить персонажей. Короткое время, месяцев восемь, я был водителем, то ли в 1998-м, то ли в 1999 году. И спустя пятнадцать лет я хорошо помнил процедуру работы: общение по радио, политкорректность, очередность действий. В том возрасте у меня было много работ, наверное пятнадцать. Думаю, это самая тяжелая работа, которая была у меня. Долгие смены, до 14 часов вождения. Холодно, монотонно, засыпаешь. А еще и само содержание поездок. Общение с людьми с инвалидностью было человеческим счастьем — но и испытанием. Потому что неизбежно переживание их боли. Некоторые из них не могут говорить, но общение все равно происходит, через взгляды, жесты. Для многих из них разговор с водителем может быть единственным за день — эти двадцать минут даже называют wagon therapy, маршруточная терапия. Наверное, бывают и более толстокожие работники. Мне было непросто.
На меня кричали, в меня влюблялись, потом я быстро ставил людей в кадр — и снимал
Практически весь фильм мы наблюдаем такой тщательно выстроенный хаос. Персонажи говорят на двух языках, в кадре профессиональные артисты и непрофессионалы, люди с ограниченными возможностями, русские бабушки и дедушки. Как вы объясняли им задачи? Каким был период репетиций?
Обычно на такие вещи уходит много времени и ассистентов. Я даже знаю случаи, когда режиссер приходит на площадку, а всё уже выстроено. У меня вообще не было ассистентов, разве что на звонках. Например, для сцены с задымлением в коридоре я лично ходил по квартирам, объяснял про съемки, говорил приятные вещи, на меня кричали, в меня влюблялись, потом я быстро ставил людей в кадр — и снимал. Построение мизансцены происходило за 15–20 минут до съемки, идеи часто появлялись на втором-третьем дубле. Дефицит времени сам стал режиссерским ходом — обостренная, партизанская атмосфера создавала нужное напряжение. Выдумать или сыграть это было бы невозможно. На рассадку в микроавтобусе уходил час, час на высадку. Два часа моего золотого времени! Всех нужно пристегнуть, дождаться, когда замолчат. На меня начинает орать оператор, я ему через весь автобус отвечаю.

Люди с меньшим количеством персонажей и более простыми объектами снимают 50–70 дней. Рад, что в США кому-то это позволяют. У нас было 24 дня — пуля в лоб. Поэтому я был как амурский тигр, который вылетал из клетки и несся по тайге.
Вы решили снимать кино на пленку. Насколько это усложнило процесс?
Это не решение, а необходимость — для меня только так можно. Другое дело, что когда в октябре 2017 года нас бросил инвестор, речи уже не шло о том, чтобы снимать только на пленку. Были рады уже снимать на цифру, на дерево, на джинсовую ткань. Но все важные сцены были сняты на пленку без мониторов.
В принципе, цифра ничего не упрощает. Она добавляет людей, которые занимаются камерой. Больше работы над обработкой изображения, потому что оно везде одинаково чистое, пластмассовое, мертвое. Много этапов производства исходников, на каждом можно допустить ошибку — и эти ошибки допускаются. С пленкой всё просто: она либо есть, либо ее нет. Это другие краски, другой способ чувствовать мир. Это масло против компьютерной графики. А еще пленочная съемка дисциплинирует, люди снимают меньше, точнее, нет этого: «Ну, это ж цифра, давай еще!»
Менеджер Шайи Лабафа влюбился в сценарий, но Шайа был недоступен, потому что сидел без мобильного телефона в норвежском лесу.
Монитор убивает общение с актерами — а это то малое, что есть прекрасного в сложном процессе съемки. Мониторное поколение смотрит и говорит только с экраном, контакта нет. Герман-старший не любил смотреть в камеру, говорил: «Зачем мне? Я посмотрю, потом оператор скажет — ты же все видел, сам виноват. А так пусть трясется». Оператор должен видеть близкое тебе, понимать, за что ты переживаешь. Тогда не нужен монитор. Я для себя несколько сцен убил монитором — ничего не увидел, не почувствовал, и отнял у себя малую радость в этой войне.
Я обратил внимание, что некоторых рецензентов сбил с толку переход в ч/б в финальном эпизоде.
Напрасно. Наш инженер цветокоррекции Эли Акока, который работал с Гаспаром Ноэ и Клер Дени, нашел эту сцену революционной. В финале мне хотелось сорвать декорации, убрать цвета, чтобы было такое голое черно-белое. Чтобы как можно меньше цветов отвлекали от действия. Мне не важно было, чтобы зритель видел все. Нужно, чтобы свет ослеплял, чтобы все было в контурах, тенях. Точка перехода — крик: «Ну давай, давай!» Мистический провал.
Выбор красок не должен решаться этим подростковым языком, на котором сны черно-белые, а настоящее в цвете. Современный зритель привык к тому, что он смотрит фильм «Мюнхен» — и у героя там кошмарный сон в синем. Американские зрители меня спрашивали: «Это у вас сон, воспоминания?» Нет, просто вас к этому приучили.

«Синонимы»: текст на чужом языке
Герой фильма Вик отказывается от родной речи. В «Синонимах» Надава Лапида, которые в этом году победили в Берлине, это связано с позицией героя, покинувшего родину. С чем это связано у Вика?
Ни с чем, это реальность поколения. Они выросли в США, им удобнее говорить по-английски. При этом они всё понимают. Я видел ситуации, когда родитель продолжает говорить по-русски, ребенок понимает, просто отвечать по-русски для него — чуть больше работы. Зритель мало знает о прошлом Виктора — но я знаю об этом парне. Думаю, там были и наркотики, и кто-то его вытягивал. Родители много работали, старались, времени на детей не оставалось. А давление продолжалось: ты из такой семьи, ты не можешь нас подвести. В итоге дети растут сами по себе.
Где вы нашли Криса Галуста, исполнителя этой роли? Он владеет русским?
У него папа армянин, мама украинка. Родился и вырос в Бруклине, летом ездил в русскоязычные лагеря. Найти его было непросто. Изначально у меня возникла идея взять молодого профессионала, который еще не ошекспирился. В итоге, мне кажется, мы перепробовали всех англоязычных актеров в возрасте от 18 до 30 лет — в США, Великобритании и Новой Зеландии. Молодые актеры из Австралии читали сценарий и слали признания: об этой роли они мечтали с трех-четырех лет. Менеджер Шайи Лабафа влюбился в сценарий, но Шайа был недоступен, потому что сидел без мобильного телефона в норвежском лесу. Мы рассмотрели всех молодых из «Дюнкерка». Одному сделали предложение. Буквально через неделю у него сменился агент в Америке, который сказал: «Парень, у тебя самая большая картина года выходит через две недели, нафиг тебе этот Висконсин!» Это длилось месяцев шесть, мы уже не знали, что делать. И тогда наши инвесторы, компания A24, предложили услуги известного режиссера по кастингу Дженнифер Вендитти. Она умеет выискивать непрофессионалов на улице. За пять недель ей удалось отыскать Криса Галуста. Ее ассистенты были в Бруклине, увидели молодого человека с тортом — у дедушки Криса был день рождения. К нему подошли и сказали: торт хороший, но нас интересуете вы.

Часть вашего фильма снималась на полном ходу в микроавтобусе, и это редкий фильм, в котором исполнитель главной роли указан также и в качестве каскадера…
Мы гнали на скорости 75 миль в час, входили в резкие повороты. Оказалось, что Крис — блестящий водитель-каскадер. Он восемь дней обучался на медицинском транспорте, а дальше его как котенка бросили в воду.
В фильме замечательная работа профессионального артиста Максима Стоянова. Вот этот русский английский, который мы слышим, так и был написан, или вы его подгоняли под актера?
Работа со Стояновым — абсолютное счастье. Мы искали этого героя, Диму, и мы его нашли. Поначалу Стоянов не понимал, как так можно работать, он привык к детальному разбору каждой мотивации. Он приехал за две недели, мы с ним разобрали общую канву. Дима приехал в Америку год-два назад, бегает по городам, хитрит, подворовывает, любит, такой аферист с золотым сердцем. Понахватался на улице английского — цепкий ум. Поэтому язык с хорошим таким колоритом. Кстати, Максим очень быстро улучшал произношение, я даже стал волноваться: начнет свободно говорить, что делать будем? Часто я просил его говорить своими словами. И меня поразила способность Максима моментально делать текст своим. Ведь это чужой язык! При этом я знаю людей, которые прожили здесь тридцать лет, активно учили английский — и никуда. Выдающийся парень. У Константина Райкина его обучили тому, как работать с Шекспиром, с Чеховым — и после всех сыгранных текстов и пьес не вышибли способности быть Димой, прикоснуться к этому опыту. Возможно, потому что Стоянов вышел из Бендер, где жил дворовой жизнью ребят своего места и поколения. Меня шокирует, почему его не рвут на части. Это очень чистый, честный, работящий парень, ничего не требующий взамен, не избалованный ни средой, ни профессией, ни современностью.
О городе Милуоки слышали все, но что это такое, не знал никто.
Чапаев — Борис Фрумин
Продолжим русскую тему. В Нью-Йорке вы учились у Бориса Фрумина. Расскажите, вы прицельно к нему поступали?
Нет, о Борисе я тогда ничего не знал. Меня не приняли в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке пригласили на собеседование, и интервьюировал меня Фрумин. Как советский режиссер, очень жестко. Рядом сидел американский интервьюер, который не понимал, что происходит. И я ничего не понимал! Борис сидел, тер переносицу. У меня было ощущение, что ему мучительно скучно и тоскливо от того, что я говорю. «Здравствуйте. Да, да, очень приятно. У вас есть шанс снять полнометражное кино. О чем?» Я начинаю рассказывать сюжет. «Нет, нет! Чушь, не может быть! … Да, возможно… Не знаю, не уверен… Дальше, спасибо». Очень конкретные вопросы. «Опишите Милуоки. Не интересно… Да, это необычно. Спасибо». Это был очень жесткий, вредный диалог. Я вышел в полной уверенности, что всё провалил. Но меня взяли.

Борис — это великий педагог и великий друг. Я продолжаю учиться у него каждый день. О нем Герман-старший говорил: «Режиссура не преподаваема. Единственное исключение, которое я знаю — Борис Фрумин». Его ученики исчисляются сотнями, в их числе Кэри Фукунага, Дебра Граник, большой автор и мой близкий друг Леван Когуашвили. Борис создал редкую атмосферу в Нью-Йоркском университете. Ее там больше нет — к сожалению, Борис вынужден был оттуда уйти. Мы были его последним выпуском, по его признанию — самым интересным, наравне с первым, где была Граник. Класс был сложный: адвокаты, врачи, антропологи, каждый со своим стержнем, судьбой. Было трудно и страшно интересно. Борис каждого отбирал лично и с каждым работал. Он привозил к нам Германа. Всегда давал шанс выбраться из этой профессии максимально быстро. Потому что она очень тяжелая, и Борис знал это по себе как никто другой. Он — человек, которому всю жизнь приходилось драться за свои картины, сначала в СССР, затем в США. Я очень хочу увидеть его новую режиссерскую работу. И мне больно за тех студентов, которых лишили возможности учиться у великого мастера.
Например, сеть бельгийских ресторанов дала нам пять тысяч долларов на еду. Таким образом мы смогли всех прокормить.
В 2009 году вы стали участником сценарной лаборатории «Сандэнса». Расскажите, как туда попадают, что там происходит?
У меня был сценарий, хороший, очень личный. Кубинская картина в Гаване под названием Fuga mortis, «Бег от смерти». Очень страшный сценарий, которым я болел много лет. Его нашли интересным. В лаборатории вы работаете с рядом известных сценаристов. Вам предлагают, как сделать сценарий лучше. И это увеличивает вашу валентность, позволяет найти финансирование. Но я себя загнал в угол этим проектом. Российское гражданство само по себе от меня ушло, я стал американцем, лишился возможности европейского финансирования. Американцы кубинские картины тоже не продюсировали. Тем более, что я не кубинец. Но мне была очень близка и Гавана, и история, которую Куба переживала в тот момент — потеря идеи, образование вакуума и заполнение этого вакуума новой идеей под названием «потребление». Что-то похожее произошло в России, может быть, в этом дело.
Единственным местом, где я нашел деньги, оказались Россия и Украина. Лаборатория закончилась, мы пошли делать картину, и за пять недель до съемок наше постсоветское финансирование рухнуло.

На «Гив ми либерти» вы добивались финансирования разными способами — кампания на Kickstarter, инвесторы и даже местные предприниматели. Как вы к ним обращались?
В США кино — это всегда частные деньги. Почти все хотят их вернуть, и гарантией считается участие узнаваемых лиц. В итоге много картин с узнаваемыми лицами, которые смотреть нельзя. Так что, когда мы приняли решение снимать кино в Милуоки с непрофессиональными актерами, мы подписали себе приговор. Два с половиной года мы стояли с протянутой рукой. Kickstarter профинансировал не картину, а начало работы над финансированием: поездки, участие в смотрах. Например, был спид-дейтинг с 65 продюсерами. Ты должен их заинтересовать на огромных скоростях. Так вот, о городе Милуоки слышали все, но что это такое, не знал никто. Представляли себе, что это такой город потомков немецких эмигрантов. А то, что белого населения там меньше 50 процентов, знали двое — один продюсер сам был из Милуоки, а второй из Детройта, то есть через озеро.
Тут как в фильме «Пацан-каратист».
С самого начала мы выходили на контакт с владельцами местного бизнеса, говорили, что мы маленькая кинокомпания в Милуоки, хотим делать кино именно здесь и нам нужна помощь. Если вам важна культурная жизнь города — не могли бы вы помочь? Нам нужно кормить съемочную группу на протяжении тридцати съемочных и двадцати подготовительных дней. Сколько вы можете дать обедов, гамбургеров, кофе? Некоторые соглашались. Например, сеть бельгийских ресторанов дала нам пять тысяч долларов на еду. Таким образом мы смогли всех прокормить. Кроме того, ни один из объектов нам ничего не стоил. Разрешения на съемки в городе нам почти ничего не стоили. Также мы сотрудничали с компанией по транспортировке людей с инвалидностью. Она предоставила нам в пользование этот фургон на три месяца. И каждый день после съемок Крис вез Лорен [Спенсер, исполнительница главной женской роли — примеч. ред.] в гостиницу, затем ехал к себе, а утром снова ее подбирал. Одно из преимуществ работы в маленьком городе — человеческие отношения. Люди успевают выслушать тебя, прочувствовать историю, и если им это важно, они готовы помочь. Спасибо этим людям, они правильное дело сделали: в Милуоки еще не было картины, которая побывала бы на «Сандэнсе», в Каннах. Плюс у нее есть местный американский прокат, что архисложно. Фильмы-то в Милуоки вообще не снимаются. Иногда подснять как фон. А как персонаж — такого не было.
Вы с Элис Остин основали компанию, которая называется так же, как и фильм. Какие у вас дальнейшие планы?
До сих пор занимаюсь картиной «Гив ми либерти». Правил русские субтитры, до этого занимался фотографиями, которые остались после Канн, готовим всё для нашего прокатчика Wild Bunch. Работа продолжается. Спим очень мало. К сожалению, пока мне не удалось заняться чем-то новым. Есть две идеи. Для одной мне нужно вернуться в Милуоки, пожить с этими людьми. Элис разработала интересный сюжет по мотивам ее семейных историй, это историческая драма, это фильм нуар, это костюмы 50-х годов. Это большая работа, особенно в сравнении с тем, что мы сейчас сделали. Надеюсь, что к началу сентября будет первый вариант сценария. И есть поползновения в сторону кубинского фильма. Не знаю, есть ли там еще картина, есть ли она во мне, но мне хотелось бы попробовать.
А компанию мы так назвали, потому что столько возились с «Гив ми либерти» и поняли: это наша судьба, символ нашего несломленного духа. Тут как в фильме «Пацан-каратист». В первом акте нас избивали, к третьему мы лежали на полу в луже собственной крови, но затем поднялись и выиграли битву. Это был удивительный опыт, но повторять его я не хочу.
Читайте также
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой