Ролан Барт. Человек, который убил автора
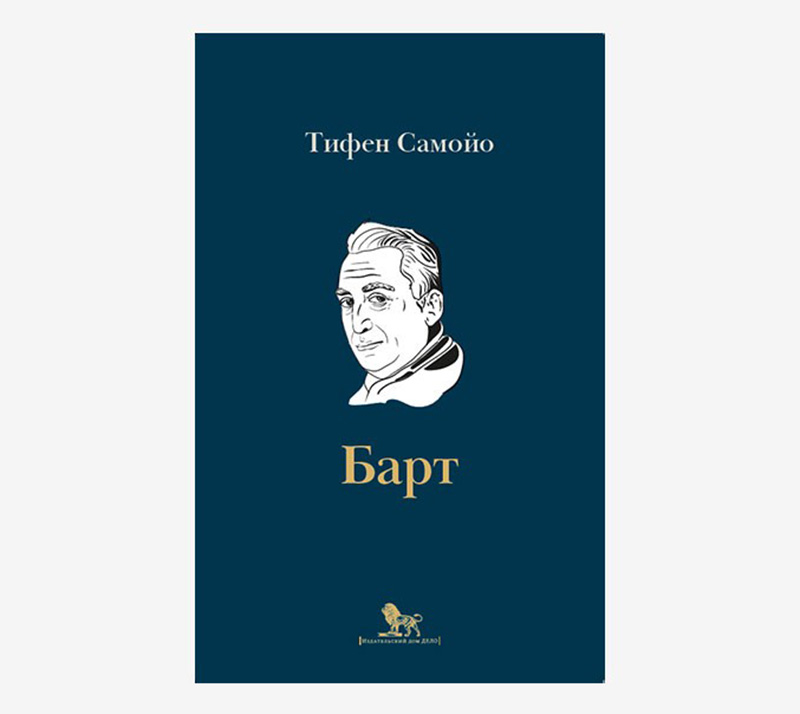
Усыпив бдительность благодарностями и списком архивных источников, биограф Тифен Самойо заходит с козырей: «Ролан Барт умер 26 марта 1980 года. К заболеванию легких, обострившемуся из-за несчастного случая, добавилась инфекция из тех, что регулярно подхватывают в больницах, нередко с фатальным исходом». Такой зачин (отметим тут роль наречий — «регулярно», «нередко», — которые делают уникальное ординарным) только кажется дерзостью. В сущности, смерть — заранее известный финал — всего лишь повод для всякого биографического письма, то самое Событие, ретроспективно конструирующее судьбу.
Бартовское «до» — 65 лет интенсивной интеллектуальной и чувственной жизни на стыке разных статусов (ученый, писатель, друг, сын, гей); его «после» — его репутация главного литературоведа эпохи, введшего в оборот множество цепких терминов, которые сегодня употребляют в весьма отдаленной связи с первоисточниками. «Нулевая степень письма», «смерть автора», «удовольствие от текста» давно и надежно в лексиконе каждого, кто хочет прибавить своим суждениям культурологической подсветки — не особенно заботясь об истинной природе этой иллюминации.

Барт апроприирован, растаскан и — скажут те, кто понаглее, — изжит. Таков, вероятно, удел философа-звезды, поколением раньше в этой роли был Сартр, несколько позже — Деррида, а сейчас притворяется Жижек, комментирующий то «Рому», то Брекзит. Не то чтобы Барт самолично водрузил кафедру на площадь: к панибратскому цитированию располагает его стиль, вдохновленный скорее литературной, нежели философской традицией. В книге Самойо Барт признается, что у него не всегда получается стройно и убедительно излагать свои мысли, — зато ему мало равных в плетении словес (не путать с наведением тени на плетень). Его настоящие амбиции — и это тоже один из рефренов биографии — лежали в области крупной прозаической формы: в смерть романа Барт точно не верил. Отсюда — не прекращавшийся всю жизнь диалог с автором «Поисков утраченного времени», который для Барта был и любимым объектом исследования, и адвокатом («В данном, как и в ряде других случаев… я попрошу ответить за меня Пруста», — заявляет он в начале «Критики и истины», оппонируя расиноведу Раймону Пикару). Книгой в прустовском духе Барт планировал заняться, когда умерла его мать Анриетта.
Но вопреки ожиданиям эта смерть не принесла освобождения. Поздний Барт (при сохранении тех же, в общем, производственных темпов) жил в «маринаде»: так Флобер называл депрессию — состояние в его случае одновременно угрюмое и плодотворное. Однако бартовское письмо всегда было слишком интимным, чтобы черпать ресурсы в личной трагедии. В итоге он посвятил матери «Camera Lucida» — одно из важнейших в XX веке исследований фотографии, увидевшее свет за два месяца до нелепой аварии, которая свела Барта в могилу и стала поводом для конспирологических спекуляций. Об этом лауреат Гонкуровской премии Лоран Бине (автор «HHhH») написал совсем не легкомысленный роман «Седьмая функция языка»: скоро его опубликуют и по-русски.

У Самойо вообще вышла довольно печальная книга: Барта не назовешь неудачником или не реализовавшимся в полной мере мыслителем; не сказать, чтобы он вел какую-то страшно аскетичную, лишенную удовольствий жизнь (скорее, крайне организованную). И все равно этот образ непрестанно, по очень разным поводам писавшего человека (про кино, к слову, почти ничего не писал, хотя смотреть любил) заставляет взгрустнуть: с годами Барт все более превращался в знак, отдаляясь от себя настоящего (что бы последнее слово ни значило). Посвятив уйму времени чужим произведениям, он как будто запустил свое и предпочел стабильную академическую орбиту какой-то более шальной траектории.
Впрочем, именно этот его выбор предопределил направление всей западной гуманитарной мысли: посвятив себя не репликам (молодой Барт бредил театром), но структурам, он изменил наше представление об устройстве и функциях текста: рекламного, журналистского, литературного. Это он лишил автора монополии на интерпретацию собственного произведения (в этом смысле и надо, кажется, понимать пресловутую смерть) и в пику ему возвысил читателя. В конечном счете, Барт — это не столько формулы и афоризмы, сколько стиль мышления, равно внимательного к «классике» («Да, я из XIX века», — писал он в дневнике) и «авангарду» (поддерживал «новых романистов» Роб-Грийе и Бютора), «родному» (восхищался в печати своей ученицей Юлией Кристевой) и «чужому» (не раз сочинял предисловия к книгам, с которыми был не согласен).
Эту неистощимость можно объяснять особенностями темперамента, но, наверное, не будет большой натяжкой увидеть в ней примету эпохи, когда специализация не означала сегрегацию, а слово «междисциплинарный» не было синонимом шарлатанства. Барт — а также Фуко, Эко и, скажем, ключевые фигуры Московско-тартуской семиотической школы — проходили сквозь стены, наводили мосты и с азартом строили науку, которая, как им казалось, обладала универсальным объяснительным потенциалом. Вопреки опасениям их утопичный проект продвинулся сильно дальше котлована. Фуко стал ведущим экспертом по тюрьмам, безумию и сексуальности. Эко написал несколько великих романов. Лотман познакомил позднесоветских интеллигентов с культурой дворянской России. Ну а Барт безупречно разобрал язык моды и мифа и сыграл Уильяма Теккерея в фильме Андре Тешине «Сестры Бронте».
Так и не скажешь, кому повезло больше.







