«Живой» — «Сеансу» отвечают…
Лидия Маслова
«Наши мертвые нас не оставят в беде», — пелось в одной песне Владимира Высоцкого. В общем, об этом снял фильм Александр Велединский — о том, что от мертвых иногда чувствуешь больше тепла, поддержки и дружеского участия, чем от живых, и любимые покойники более реальны для тебя, чем многие номинально «живущие» окружающие. А как именно погибли твои мертвецы, в данном случае не имеет значения — на чеченской войне, защищая Белый дом или переходя улицу в нетрезвом виде.

Андрей Шемякин
Фильм Александра Велединского вне игры, вне конъюнктуры, сколь угодно талантливой. Он про поколение «мертвых по прибытии», которого уже нет, хотя эти мальчишки только сейчас начинают возвращаться с войны, и на них возлагаются разного рода преступные надежды, в том числе политические. Для меня это — новое «Покаяние», где-то ерническое — чтобы поверили рассказу, где-то прямолинейное — чтоб дошел смысл. А где-то запредельно серьезное, чтобы напомнить соотечественникам: уже и путинские свинцовые времена практически позади, а жить в России — некому.

Екатерина Тарханова
Александр Велединский так и не выбрал между кино и литературой. Каждый отдельный эпизод «Живого» вполне можно смотреть, но между собой они связаны некинематографично, вытекая не из целостности всего показанного, а из той или иной специально обозначенной части. Как в «Русском» спустя время помнится лишь эпизод с пьяной фронтовичкой, так из «Живого» останется, вероятно, парочка блестящих сцен с привидениями или когда поп бежал за бомжом. Или что-то еще. Но большая часть блестяще придуманной фабулы пропала даром — из-за неуместной Чечни, навязанной метафизики, пошлой морали. Такое впечатление, что Велединский сам себя не знает. Он, видно, легкий человек, а пытается быть провидцем.

Александр Трошин
В нашем кино уже возвращались опаленные войною из Чечни, уже предъявляли счета погрязшей в равнодушии и корысти тыловой жизни. Велединский идет проторенным маршрутом, разве что обновил его, углубил (во всяком случае, к этому стремился) изобретательным остранением: призраками двух погибших ребят, следующих за героем в его тыловых метаниях, пока того не собьет машина на ночном шоссе и он не станет таким же фантомом, как они. Ход сам по себе выразительный (хоть и его мировая драматургия знает), однако дал он картине не так много, как ожидалось. В середине фильма, исчерпавшись, он исчез, и осталось дальше тянуть историю «расчета с живыми» на одной лишь публицистической ярости. Впрочем, чтобы сорвать сиюминутные аплодисменты теперешнего молодого зала (где половина «там» была, а половина «туда» провожала или «туда» пойдет), этого достаточно. Но для искусства — маловато.

Елена Плахова
Попытка осознать то, что одни называют патриотическим подъемом, другие — милитаристско-религиозной истерикой. Велединский явно попал в точку, когда уже не скажешь «мне не больно» и не спрячешься за условное «ретро». Но что там болит, так и осталось неясно. Парни вернулись из Чечни в плохой мир, но был ли хорошим тот, предыдущий? Священник, адаптированный к молодежной культуре, — это идеал или карикатура? Если у чеченцев можно поучиться дружбе и братству, почему их надо мочить? А если не так, как иначе выражено в фильме отношение к этой конкретной войне? Прикоснувшись к ране и зафиксировав болевой синдром, Велединский не называет его причину, а заглушает раскатами попсы.

Андрей Плахов
Велединский снял фильм-перевертыш и по отношению к «Мертвецу» Джармуша, и по отношению к «Брату» Балабанова. Здесь нет ни мистического улета, ни пафоса кровного родства. Брат появляется не у героя-воина, а у изображающего его актера Чадова, причем на сей раз брат по фильму — не бандит, а священник. Потусторонний мир похож на наш грешный, и наоборот. При всей изощренности этой конструкции сила «Живого» — в почти лобовом наскоке на болезненную тему. В этом же его уязвимость, потому что страдающее «русское» не находит никакого противовеса. Как будто мы — не часть человечества, а выведенный в пробирке экспериментальный народ, сражающийся с абстрактными врагами, то есть со своими собственными комплексами.

Евгения Леонова
Лев Толстой боялся, что его признают умалишенным: в этом случае созданное им превратилось бы в необязательные высказывания неадекватного человека. Все, что происходит в фильме, за исключением эпизодов, когда герой еще однозначно жив, — предсмертный сон, и сновидение как форма рассказа делает социальный сюжет «Живого» необязательным. Сон в художественном произведении, особенно в кино, по сути реалистичном, значителен, если он — образная иллюстрация реальности. Положение осложняется тем, что Велединский — автор грубый и приблизительный: берется за актуальную проблему (героя), но не может с ней справиться и часто приколачивает по живому. Так что самые значительные признаки/призраки реальности — погибшие солдаты, сопровождающие героя, — так и остаются привидениями: массивными, бряцающими оружием, сквернословящими, но эфемерными. Скончались в творческой лаборатории, а не на войне.

Алексей Востриков
Невнятная, а поэтому и непосильная сверхзадача губит фильм на корню. Многозначительность обобщений только подчеркивает банальность на всех уровнях. Во всем проявляется насилие идеи над жизнью, естеством и искусством. Поэтому и совесть принудительная, и нравственность гальванизированная. Вымученные ответы на выстраданные вопросы. И двое покойников-сверхсрочников — живее всех живых! — не вытащат на себе непосильной ноши.

Виктор Топоров
Без пяти минут шедевр; сосредоточимся поэтому на этих отсутствующих (или, наоборот, лишних) пяти минутах. Подобно диспутанту, имеющему важное сообщение, но получающему слово лишь в самом конце публичной дискуссии, режиссер совершенно напрасно отвлекается на полемику с «предшествующими выступлениями» — от «Брата» до «Моего сводного брата» — и на почтительное расшаркивание перед Сергеем Говорухиным; в итоге поэтическая по природе своей притча о том, что мертвые тянут живых, потому что те не живые, а полумертвые (а Бога нет), оказывается несколько расфокусированной. Случайно узнав, что так называемую беллетризацию «Живого» пишет по заказу издательства Дмитрий Быков, жду результата с недоумением и тревогой.
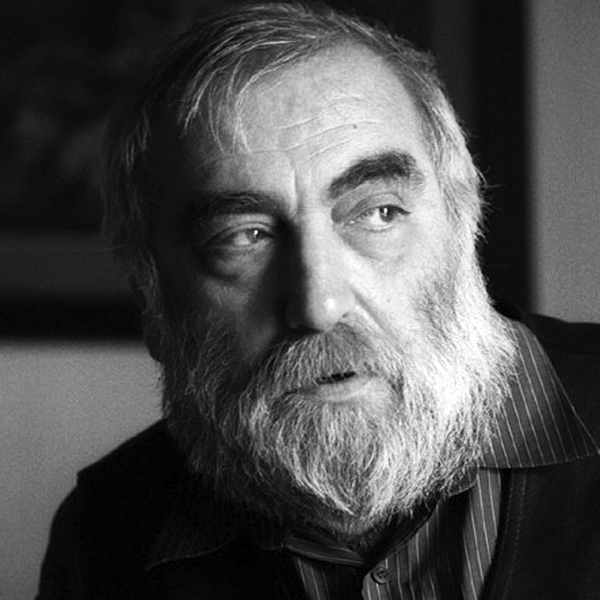
Алексей Гусев
Пока режиссер отыгрывает основной сюжетный ход, на все лады варьируя и раскладывая его в цепочку гэгов (в самом достойном, формальном смысле этого слова), фильм производит впечатление блестящего и притом далеко не бессмысленного экзерсиса. За сухой, размеренной, мнимо бесхитростной четкостью жеста и фразы виден и талант, и драйв, и редкостное чувство меры. Но стоит лишь Велединскому спохватиться и начать что-то подразумевать, — что-то, серьезно говоря, очень важное, — как интонация мигом сбивается, а авторская речь становится косноязычной. Особняком стоят два эпизода: вставной шедевр — сцена с армейскими проститутками (вот где мускулы-то явлены в полную силу!) — и невероятный в своей гремучей пошлости финал с медсестренкой и дембелем с нимбом. Впрочем, финал этот более всего походит — и по интонации, и по сюжету — на последний куплет какой-нибудь из бесчисленных солдатских песен. А насмехаться над жестокой сентиментальностью армейского песенного фольклора — последнее дело. Вообще, оценивать фильм Велединского, пожалуй, должны все-таки не киношники, а его герои. Но боюсь, что они вряд ли захотят его смотреть. Им хватило.

Елена Грачева
Трудно удержаться от плохого каламбура по поводу того, что фильм «Живой» — очень живой. Со всеми проистекающими отсюда эксцессами: где-то точный и яркий — а где-то пошловатый и патетический, где-то умный, где-то глупый, где-то претенциозный — и перехватывающий дыхание. Достоинство Велединского в том, что он никогда не прикидывается, а всегда говорит то, что думает. Недостаток — в том, что его совершенно не интересует, как это сказано и как это выглядит. «Живой» ближе всего к тому, что раньше называли «народным кино». Может быть, он таковым и станет.

Станислав Зельвенский
У Велединского видна высокая, прошу прощения, кинематографическая культура — понятно, что человек много и правильно смотрел. Но. Очень много фальшивых нот на грани и за гранью пошлости — от фраз типа «эх, разбойнички» хочется просто под стул спрятаться. Вся линия со священником — вообще без комментариев. Песен за кадром раза в четыре больше, чем нужно. Остроумная вроде идея с призраками, если начать вспоминать «Лестницу в небо» и пр., уже не кажется такой остроумной (хотя новое слово сказано: здесь призраков видят не только дети, что банально, но и солист группы «Сплин»). Ну и сюжетная конструкция вызывает вопросы: если драматический герой совершает убийство, такое по определению нельзя спускать на тормозах. В «Живом» же, на самом деле, если вообще выкинуть эпизод с убийством, почти ничего не изменится.

Павел Черноморский
Страшный и очень хороший фильм, который мне представляется не вполне этичным как-то комментировать. Искусство редко вызывает чувство стыда, — а этот фильм вызвал у меня именно эту эмоцию. Стыдно за то, что школа была хорошая, что живу в Питере, что в армию не пошел и даже особо «косить» как-то не приходилось. Стыдно. Лет пять назад по ТВ часто крутили записи переговоров наших в Чечне по рации — предсмертные. Вот с «Живым» та же история, то же чувство стыда. Для художественного фильма с раскрученным актером в главной роли это очень большая удача.
Первый фильм Александра Велединского был объективно неплохой, а этот — просто очень хороший. Здесь не имеют особого значения ни интонационные совпадения с Балабановым, ни неприятный эпизод с группой «Сплин», который в другом фильме вызвал бы просто ощущение неловкости (вообще режиссерам этого поколения пора забыть про русский рок). Но это — неважные частности. По сути все — правильно. И все, наверное, правда.
Это фильм про то, что война не в горах, а вокруг. Текст — особенный плюс. Думаю, если бы у фильма был мощный телепрокат, он разошелся бы на цитаты.

Михаил Трофименков
«Русское» могло бы называться «Живой»: это было бы точным определением роли Эдуарда Лимонова в современной России. А «Живой» мог бы называться «Русское». Могу только повторить то, что уже писал. Это главный — пока что — фильм о чеченской войне, исполненный в жанре «праздника общей беды». Один из редких-редких в нашем кино фильмов, в котором, несмотря на три, как мне показалось, финала, есть настоящий катарсис. В общем, «все идет по плану».




