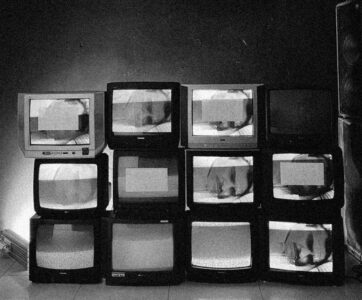Время — кровь. Хрестоматия

Художник: Сергей Иванов
Я слушаю начштаба Крылова, одновременно изучая его рабочую карту, отметки и стрелы на ней, хочу войти в курс происходящих событий. Американцы говорят: «Время — деньги». В обстановке тех дней можно было бы сказать: «Время — кровь», ведь за упущенное время придется расплачиваться кровью людей.
Василий Чуйков, командующий 62-й армией
«Начало пути»
Сталинград встречает вылезающим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями. Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых студебеккеров. На них длинные, похожие на гробы ящики, «катюшины» снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах — задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутыли с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно этого не видел. Женщины по-прежнему красят губы.
Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь.
Виктор Некрасов, писатель, фронтовик
«В окопах Сталинграда»
Момент отчаяния в душе Сталина прошел. Вернулось устойчивое решение сделать оборону Сталинграда поворотным пунктом войны. Для этого приняты были чисто сталинские меры: запрет эвакуировать население. В воспоминаниях секретаря Сталинградского обкома приводятся слова Сталина по телефону: «Армия не защищает пустых городов». В этой фразе учтен опыт Одессы, Севастополя, Ленинграда. Но в городах-героях население стихийно собиралось в местном центре — и оказывалось в блокаде. А в Сталинграде граждан сознательно не предупредили об опасности, использовали их гибель как толчок к вспышке патриотического воодушевления. Женщины и дети, погибающие на глазах солдат и офицеров, создавали тот взрыв патриотизма, который и в 1941 году заставил немцев обходить очаги сопротивления и потом вести долгую осаду. Но Гитлер не хотел оставить Сталинград в стороне, ему нужен был поскорее символ победы. И его элитные части увязли в городе, растянувшемся на десятки километров вдоль Волги.
Григорий Померанц, философ, востоковед
«Запоздалая тень победы»
Мы сидим в библиотеке до тех пор, пока библиотекарша не намекнет нам, что в шесть часов библиотека закрывается.
— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть за 1912-й и 1917-й.
Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.
У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит:
— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена…
Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них уже никто не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.
Дома борщ, действительно, замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.
— Совсем как в ресторане, — смеется Игорь. — Еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.
И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор… Что за черт!
Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, летят самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных уровнях. Все небо усеяно плевками зениток.
Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Невозможно оторваться.
Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять… двенадцать… пятнадцать… восемнадцать штук. Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него черные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна… две… три… четыре… десять… двенадцать… Последняя белая и большая. Я закрываю глаза. Вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего уже нельзя разобрать. <…>
На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, перекладывают, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.
Люди бегут, бегут, бегут…
Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные, желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.
Люди все бегут, бегут, бегут… Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф. <…> Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.
Виктор Некрасов
«В окопах Сталинграда»

Художник: Сергей Иванов
Нигде, пожалуй, в мире к строительству жилищ не относились с такой серьезностью, как во фронтовом Сталинграде. Не для тепла и не в пример потомству строились сталинградские блиндажи. Вероятность встретить рассвет и час обеда грубо зависела от толщины блиндажных накатов, от глубины хода сообщения, от близости отхожего места, от того, заметен ли с воздуха блиндаж.
Когда говорили о командире, говорили и о его блиндаже.
— Толково сегодня Батюк поработал минометами на Мамаевом кургане… И блиндажик, между прочим, у него: дверь дубовая, толстенная, как в сенате, умный человек…
А случалось, говорили о ком-нибудь так:
— Ну что ж, потеснили его ночью, потерял ключевую позицию, связи с подразделениями не имел. Командный пункт его с воздуха виден, плащ-палатка вместо двери — от мух, можно сказать. Пустой человек, от него, я слышал, жена до войны ушла. <…>
Сталинградский береговой откос, часто и плотно начиненный блиндажами, напоминал огромный военный корабль — по одному берегу его лежала Волга, по другую — плотная стена неприятельского огня.
Василий Гроссман, писатель
«Жизнь и судьба»
Еременко и Хрущев сказали мне:
— Ты должен спасти Сталинград. Что думаешь об этом?
— Так точно.
— Нет, здесь мало следовать приказу. Что думаешь на самом деле?
— Это означает погибнуть, и мы погибнем.
Василий Чуйков
«Начало пути»
Боеприпасов почти не осталось. И следующие атаки мы отбивали камнями, изредка стреляли и бросали последние гранаты.
Антон Драган, пехотинец
(«Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших»)
Чтобы восстановить неприкрашенный подлинный язык Сталинграда, надо отбросить коммунистическую риторику и поставить на ее место матерную ругань.
Анатолий Козлов, пехотинец
(«Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших»)
Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя штабные радиоприемники; проволочная связь повсеместно нарушалась. Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой зыбилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Над немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.
Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев — тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь поднималась в небо.
По нескольку раз в день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.
Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.
Чем только ни пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день — создавали видимость дела, писали письма, спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь выл вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.
— Давайте в подкидного сыграем, — сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.
Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцами по столу, он сказал:
— Нет хуже положения — вот так ждать, как бы не схарчили.
Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козыри», потом вдруг смешал колоду, проговорил:
— Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!
Он сидел, задумавшись. Лицо его казалось ужасным, такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.
Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:
— Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.
Потом он рассмеялся, сказал:
— В дивизии днем в уборную выйти — страшное, немыслимое дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я посрал!», а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.
С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.
Василий Гроссман
«Жизнь и судьба»

Художник: Сергей Иванов
Центрами сопротивления в Сталинграде становились базовые позиции армии, включая несколько домов-«крепостей». Здания, особенно сооруженные из хорошего камня и кирпича, становились опорными пунктами и соединялись друг с другом траншеями.
Василий Чуйков
«Начало пути»
Начштаба армии открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.
— Шинелью, шинелью голову закрой! — закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:
— Где командующий?
Вдруг он понял: немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге.
Казалось не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. <…> Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь ревела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг. <…>
До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лица от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. <…>
Гуров сказал, оглядывая стоящих:
— И в огне мы, оказывается, не горим… — и пощупал горячие пуговицы шинели. <…>
Он [боец] сказал Крылову:
— Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попалило бы нас всех. <…>
Крылов вглядывался в льющийся вокруг огонь. Не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу [Волги, в Сталинграде]. <…>
Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца. <…> Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление.
Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему, обведя рукой широкий круг повыше головы:
— Красиво, здорово, черт, а?
Василий Гроссман
«Жизнь и судьба»
После окончания Сталинградской битвы бойцы в моей роте обратились к Библии. Мы начали читать друг другу отрывки из Ветхого Завета. Мы все были атеистами и коммунистами, но написанное там говорило нам очень о многом, как если бы его авторы понимали то, через что мы прошли.
Александр Фортов, пехотинец
(«Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших»)
И вот в этот солнечный осенний день я сидел у покрытого ржавчиной бронеколпака пулеметного гнезда возле форта Дуамон, прислушивался к тишине, звону жаворонка где-то в голубой вышине и вспоминал другое сражение.
Обычный день верденского ада, 112-й день обороны… А что же у нас происходило, на наш 112-й день? Историки исчисляют начало обороны Сталинграда со дня 17 июля 1942 года, когда 62-я и 64-я армии вели упорные бои на рубеже рек Чир и Цимла. Если это так, то 112-й день приходится на 6 ноября.
И как ни странно — бывают же совпадения, — именно об этом дне в одной книге, которая называется «В окопах Сталинграда», написано:
— Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону.
— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи.
Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер.
И, устроившись в тесной землянке, жуя котлеты и чем-то их запивая, трое офицеров вспоминают прошлое, дни отступления, нелегкие дни. А сейчас…
— Как там на передовой, Лешка? — спрашивает у телефониста Ширяев. — Спокойно?
— Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — нарочито бодро, чтоб не подумали, что он заснул, отвечает лопоухий Лешка. — В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.
Но были и другие дни, куда менее спокойные. Двести дней, двести ночей. И закончились они, как в Вердене, победой защитников.
В Вердене погибло семьсот тысяч с обеих сторон. А в Сталинграде? Как утверждает БСЭ, «до 1,5 миллионов солдат и офицеров противника (с учетом потерь в ВВС) было убито, ранено и взято в плен». А наших сколько? Сколько ребят не вернулось домой? Ни одной цифры. Ни в энциклопедии, ни в фундаментальном труде «Сталинградская битва» академика А. Самсонова. Ни одной…
Когда в 1950 году я попал на Мамаев курган, он весь был усеян костями и черепами. Закапывали мы неглубоко, грунт был замерзший, потом все размыло дождями. Сколько ж полегло здесь? Никто не знает. Много, очень много… Страшно подумать.
Перед отъездом навсегда я опять пришел на Мамаев курган. Была зима, все занесло снегом. Мы с товарищем по колено в снегу искали что-нибудь, напоминающее былые окопы. Кругом был гранит и мрамор. Вдалеке с мечом в руке, лицом к Волге, неизвестно к кому и к чему взывала стометровая Мать-Родина. Окопов не было. Найдя что-то отдаленно напоминающее воронку, мы с другом вынули поллитровку. И рядом вырос молоденький лейтенант.
— Постыдились бы, — грубо сказал он. — Тут люди кровь проливали, а вы…
— Между прочим, среди упомянутых вами людей был и этот товарищ, — мой друг указал на меня пальцем. — Из Киева приехал, друзей вспомнить.
Лейтенанта как ветром сдуло.
Сталинград сейчас от меня далеко. Верден ближе. А еще ближе Триумфальная арка с Могилой Неизвестного Солдата. Именно на нее я кладу свой букетик 2 февраля — ведь тот, кто лежит под бронзовой плитой, тоже воевал с немцами.
Виктор Некрасов
«Верден — 70 лет»

Художник: Сергей Иванов
Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская водная артерия, Волга, парализована. И нет такой силы в мире, которая может сдвинуть нас с этого места.
Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывающий, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики.
Адольф Гитлер
9 ноября 1942 года
Командование поручило командиру особого подразделения и военному художнику Эрнсту Айгенеру разработать проект ордена. <…>
Для Айгенера представляли интерес те вещи, на которые никто не обращал внимания; развалины, которые все проклинали, привлекали его как художника. То, что другим было в тягость или к чему люди просто были безразличны, его, наоборот, воодушевляло: артиллерийский огонь и облака, солнце и грязь, ясные ночи, туман над Волгой. У него не было врагов, а позднее он хотел остаться в России, ему должен был принадлежать дом на донской возвышенности — так он любил эту страну.
В центре ордена Эрнст Айгенер изобразил бункер с руинами волжского города, к которым было обращено лицо мертвого солдата. Каску солдата обвивала колючая проволока, а поперек всего проекта прямыми буквами было написано: «Сталинград».
Проект был отклонен ставкой фюрера.
«Слишком деморализующе», — было написано на краю проекта. На следующий день, который выдался очень солнечным, Айгенер в возрасте 37 лет погиб — это было 20 ноября 1942 года. Он остался там, где позднее хотел построить себе дом, — на дороге, проходившей через донскую возвышенность недалеко от Калача.
«Звезды вечны, но люди поступают так, будто завтра их здесь уже не будет».
Так написал Айгенер за три часа до своей смерти.
Хейнц Шретер.
«Сталинград. Великая битва глазами военного корреспондента»
Мы проходили квартиры с покореженными черными потолками и лоскутами обгоревших штор, с голым кирпичом и осыпающейся штукатуркой за оборванными обоями; в комнатах царил разгром: каркасы никелированных кроватей, вспоротые диваны, опрокинутые буфеты, детские игрушки. Мы перебирались по доскам, перекинутым через пробоины в полу, ползли по страшным открытым коридорам, и везде кирпичные стены казались кружевными из-за изрешетивших их пуль. Иван не обращал внимания на снаряды, но испытывал суеверный страх перед снайперами, я, наоборот, ужасно боялся взрывов и еле сдерживался, чтобы не пригибаться. Снайперов я, по неопытности, не опасался, и Ивану не раз приходилось оттаскивать меня в сторону от опасного места, хотя мне казалось, что никакой угрозы нет. Иван убеждал меня, что снайперы — женщины, и он якобы собственными глазами видел труп самой знаменитой из них, победительницы советской спартакиады 1936 года. Любопытно, что он ничего не слышал о сарматах, обитавших некогда в низовьях Волги и происходивших, если верить Геродоту, от браков амазонок со скифами. <…>
Мне рассказывали о Rattenkrieg — «крысиной войне» — за руины, когда коридор, потолок, стена превращались в линию фронта, когда вслепую, в пыли и дыму, бросали гранаты, когда живые задыхались в пекле пожаров, а мертвые заваливали лестницы, площадки, пороги квартир, когда терялось понятие времени и пространства, и война уже напоминала абстрактную, трехмерную игру в шахматы.
Джонатан Литтел
«Благоволительницы»
Весной 1942 года маршал Шапошников, тогдашний начальник Генерального штаба, предложил перейти к «стратегической обороне». Я узнал об этом из циркулярного письма, разосланного всем участникам Сталинградской битвы, года два тому назад. Слова «стратегическая оборона» многое мне сказали. Здесь и возможность отдельных наступательных операций, и отказ от втягиваний в частные успехи, и настойчивое сохранение глубины обороны и т. п. Что ответил на это Сталин? Он уволил Шапошникова и приказал продолжать зимнее наступление! Хотя в течение теплого времени, пока не преодолено абсолютное господство противника в воздухе, наступление — это создание идеальных условий для немецкого контрнаступления и прорыва нашего фронта. Но Сталин опьянел от зимних побед. Он забыл о своем позорном предложении второго Брестского мира и решил, что весна ему нипочем. <…>
На Харьковском направлении Гитлер, учитывая характер своего противника, симулировал отступление, втягивая массы советских войск в мешок. Этот маневр многим бросался в глаза, но Сталин их не слушал — пока мешок не захлопнулся, и ничего нельзя было исправить. Тогда хмель победы овладел Гитлером, и он развернул наступление по двум расходящимся линиям — к Волге и на Кавказ. Могучий веер танков и самолетов ослепил мир. Стефан Цвейг пришел в отчаяние и покончил с собой; а Эйнштейн нарушил соглашение физиков и объяснил Рузвельту, какое значение атомная бомба может получить на войне. К лету 1945 года бомба была готова. Таким образом, видимость неудержимого марша гитлеровских армий вызвала к жизни силы, способные уничтожить все армии.
Эта карта, однако, не была пущена в ход по своему назначению и только показана была миру в Хиросиме и Нагасаки. Гитлер был разбит без атомной бомбы. Его ошеломительные победы и без этого оказались пирровыми. Сказался второй парадокс войны: разбитые армии хорошо учатся. Заплатив миллионами жизней за свое обучение, Сталин понял наконец, как превратить свой грубый промах в «благодетельное поражение». Он приватизировал идею «стратегической обороны», только что отвергнутую, и избрал Сталинград как ключевую позицию своей стратегии.
Был, правда, миг, когда в душе Сталина снова победил страх, терзавший его в июне-июле 1941 года: а вдруг немцы с ходу возьмут город его имени? С панической энергией он собрал несколько десятков пехотных дивизий (нашу 258-ю сперва выгрузили под Воронежем, но тут же погрузили снова и высадили из вагонов к северо-западу от Сталинграда); массы пехоты были брошены в пекло с задачей срезать танковый клин, отгородивший Сталинград с севера. При полном господстве противника в воздухе результат можно было предвидеть: ни одна дивизия не продвинулась больше чем на три километра, устланные трупами. Над степью долго висел трупный смрад.
Оборона Сталинграда остановила весь фронт, напоминавший лоскутное одеяло. Немецкие части чередовались там с румынскими, итальянскими, испанскими… Пока немецкие части шли вперед, прочие охотно разделяли славу победителей. Но остановившееся или просто замедлившееся наступление создавало линию, в которой румыны и итальянцы оказались на направлении главного русского контрудара. Этого удара они не выдержали, и после артиллерийской подготовки танки, изготовленные в Сибири, вышли на оперативный простор. Группа войск Паулюса была окружена. Лоскутный фронт превратился в кучу лохмотьев. А войска Клейста, ушедшие на Кавказ, оказались вне главной игры и вынуждены были отдать все свои завоевания. При чудовищно растянутом фронте чередование немецких и румынских, немецких и итальянских участков так же помогло советским войскам, как маниакальная инерция зимних побед в голове Сталина помогла немцам прорвать русский фронт летом 1942 года.
Здесь, пожалуй, надо упомянуть и моральный фактор. Приказ № 227 — лучший образец красноречия, до которого смог подняться Сталин. «Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором…» Если разобрать приказ по косточкам, то это фальшивая риторика. Виновником сдачи Ростова был сам Сталин. После окружения главных сил, поставленных под удар его упорством наступать, наступать, наступать, — уцелевшие части не могли остановить немцев. Позиция, на которой можно было стоять насмерть, была только на берегу Волги. Мне кажется, что Сталин уже думал об этой позиции, когда писал о сдаче Ростова. И именно будущим сталинградцам был адресован лозунг, замыкавший приказ: «Ни шагу назад!»
В Сталинграде не было никаких возможностей маневра, и приходилось стоять, как пешки на шахматной доске. Последние слова приказа могут быть названы законом пешек. Но игрок, ограничивший этим законом слонов, коней, ладей, ферзей, — наверняка проиграет партию. В донских степях неожиданно сталкивались наши наступавшие и немецкие отступавшие части, сохранившие боеспособность. Здесь вступали в силу законы тактики, а приказ № 227 терял силу, которую он имел в Сталинграде и которую поддерживал приказ артиллерии левого берега стрелять по лодкам, на которых группы, сброшенные с кручи на береговую черту, пытались спастись.
Григорий Померанц
«Запоздалая тень победы»
Роюсь и выуживаю у букинистов немецкий, издававшийся во Франции во время оккупации журнал «Синьяль». Там много о Сталинграде. Впрочем, это сначала очень много. Бомбежки, бомбежки, пылающий город, руины… Потом все меньше и меньше… Первый номер «Синьяля» за январь 1943 года. Последний разворот, посвященный Сталинграду. Наши позиции, снятые с «Ю-87», «штукас» — немецкого пикировщика, ох и не давали они нам покоя. Я сквозь лупу рассматриваю аэрофотоснимок Мамаева кургана. Мне кажется, что я нахожу наши окопы, блиндажи… Над ними летящие на нас бомбы. А рядом смеющаяся физиономия летчика Йекеля, совершившего только что свой 600? й вылет. На шее Железный Крест, в руках бутылка, сейчас отправляется в 601-й рейс… Снимочек не очень свежий, месяца полтора, как уже не появлялись над нами ни юнкерсы, ни хенкеля, и лейтенант Йекель уже не улыбается, сидит без дела… Потом номера три журнала «Синьяль» совсем не вспоминают Сталинград. И только в мартовском номере «Честь и слава Сталинграду»: и рисунки, не фотографии, а рисунки последних дней гитлеровского сопротивления — изможденные, замерзшие, но несгибаемые воины со сжатыми челюстями и горящими глазами. «Алказар в степи!», «Фермопилы на Волге!», «Герои!». О, как напомнили мне эти сжатые челюсти других героев — на памятнике на Мамаевом кургане. Та же несгибаемость, та же уверенность в конечной победе. Бог ты мой, как похожи эти два режима. Впрочем, не во всем. Я не видел, правда, ни одного «Огонька» периода Сталинградской битвы, но не уверен, что на страницах его было столько голых девиц, сколько в немецких журналах. Немецкое начальство заботилось о своих солдатах, облегчая им хоть так любовное томление. А у нас — обойдетесь и без фотографий… Ну что ж, и обходились.
Виктор Некрасов
«Праздник, который всегда и со мной»
Известие о каннибализме в одной из рот, оборонявших западную границу котла, повергло высшее руководство в шок. <…> Солдаты, доведенные голодом до крайности, но по-прежнему ярые приверженцы Weltanschauung, не могли решить, кого съесть — русского или немца? В основе мучившей их идеологической проблемы лежали сомнения, правильно ли употребить в пищу славянина, большевистского недочеловека. Не навредит ли его мясо немецким желудкам? С другой стороны, съесть павшего товарища недостойно, ведь если нет возможности похоронить павших за Heimat, надо хотя бы воздавать им уважение. После жарких споров они пришли к разумному компромиссу и выбрали хиви. Итак, они убили одного, и обер-ефрейтор, в прошлом мясник из Мангейма, приступил к свежеванию.
Джонатан Литтел
«Благоволительницы»
Впрочем, никакого массового бегства из Сталинграда не было. Отдельные части, отрезанные друг от друга, продолжали отчаянно сопротивляться, и это мужество отчаяния было народной почвой, на которую опирались расчеты Генерального штаба. Наступило затишье. И в затишье завершилось становление нового армейского сознания. День был заполнен рытьем окопов, разворачиванием одной сводной стрелковой роты в двадцать семь стрелковых рот и т. п. Гвардейские значки раздавались щедрой рукой. Но главное происходило в формировании духа бывалого солдата. Сотни газет повторяли лозунг, выхваченный из приказа № 227 и замечательно сформулированный в «Вольном слове Фомы Смыслова, русского бывалого солдата»: «Немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Я собирал рассказы бывалых солдат, сражавшихся в разных местах, но в газете «За Родину» сливавшиеся в одну легенду нашей дивизии, со вчерашнего дня гвардейской. Это был звездный час прессы. Она находила слова для того, что само собой складывалась в умах ветеранов. И захватывало всех; единство капли, льющейся с массами, длилось недолго, но оно было.
Сталинградская битва сплела вместе несколько идей, сил, воль: Сталин, Сталинград, победа сплелись в один клубок. Сложился свой русский стиль удалой войны, без касок, без знания пароля и отзыва, беспечный и лихой, как в песне про Ермака, с легкой готовностью стать жертвой победы. Этот тип исчезал в одном, павшем, и возникал снова в другом. Я вспоминаю младшего лейтенанта Бараболкина с его восемью нашивками за ранения, нигде не успевшего получить очередное звание — и вдруг ставшего неуязвимым и за несколько месяцев до конца войны ставшего командиром батальона и Героем Советского Союза. Судя по статистике, большинству выпал другой жребий. Но к нему все были готовы. <…>
Неужели так сохранится и слава Сталина? Да, он научился военному делу, расплатившись за науку нашими шкурами. Да, после битвы на Курской дуге он гнал и гнал немцев до Эльбы и, погубив по дороге несколько миллионов душ, он нечаянно спас Европу от атомной смерти. <…> Мы до сих пор не сумели отделить от тени кровавого деспота народные подвиги при обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, Тулы — и безымянные подвиги бойцов, погибших на своем рубеже, и беспечную удаль танкистов, сделавших ненужной атомную бомбу в Европе… И вот до сих пор мы топчемся между правдой и кривдой, между чувством вины соратников Сталина и чувством гордости победителей Гитлера. А без нравственной ясности нельзя бороться с гнилью, разъедающей наше общество, и нельзя отбросить призраки прошлого, за которыми прячутся цинизм и бесстыдная ложь.
Григорий Померанц
«Запоздалая тень победы»