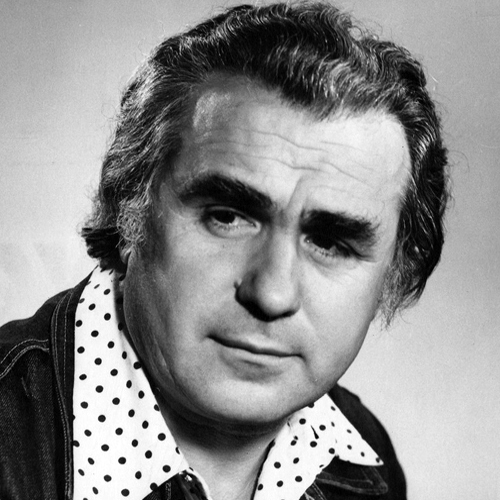Виктор Соколов: За кулисами
Виктор Соколов снимал репертуарное кино. Так, его фильм «День солнца и дождя» (1968) был в нашей армейской фильмотеке, и личный состав роты, подобно заправским киноведам, выучил его, словно устав, буквально по кадрам — настолько часто, и самым демократическим образом, выбирали эту ленту для просмотров по выходным.
Славы истинно народного художника Соколов все же не снискал, да и пресса его фильмами нечасто восторгалась. Раз от разу в рецензиях отмечались похвальные намерения и отдельные удачи режиссера, затем возникал роковой союз «но» и шло подробное перечисление просчетов его очередной ленты. И выходило, что ее можно было смотреть, а можно и не смотреть.

К изъянам его фильмов обычно относили странности их какой-то ускользающей интонации — скажем, заторможенность действия там, где ожидались энергичные акценты, и, напротив, эмоциональные всплески «не на тех местах». Эти признаки вроде бы неотделанности экранного повествования, накапливаясь за время просмотра, выделяли тот осадок, что, в конечном счете, определял восприятие ленты — в картинах самой вроде бы обыденной реальности ощущалась здесь некая томящая тяжесть.
Сынок Витька играется с воздушным шариком, купленным в честь выходного дня, а папка любовно вытирает ему нос — вполне себе образцовая обывательская гавань.
Непреходящей головной болью сталинистов стал роман Василия Аксенова «Звездный билет» (1961). Однако, будь они проницательнее к смыслам, которые рождает именно изображение, лента Соколова «Когда разводят мосты» (1962), снятая по сценарию того же Аксенова, взбесила бы их куда больше. Валерка из «Мостов», как и герои «Звездного билета», сразу после школы «ищет свое место в жизни». Но отчего столь туго идут его поиски? Ведь от позорного явления безработицы изнемогают в иных краях, а у нас, как радостно объявил великий пролетарский поэт, «все работы хороши, выбирай на вкус»…

«Звездные мальчики» Аксенова «трудоустроились» уже во второй половине его якобы несусветно нигилистического романа — причем работали с огоньком, еще и подвиг совершали, как в самых благонамеренных советских сочинениях. А в фильме Соколова — ни романтики труда, ни синкоп изящно выстроенной истории, которыми славна была упругая проза Аксенова. Как-то ощущалось, что не проблемы с поисками захватывающей работы угнетали Валерку — а смутные догадки о тщете всяческой трудовой деятельности в самой вольной на свете державе. Эти собственные, явно недолжные и прямо-таки подрывные умонастроения ужасали героя: «Все думаю: как же так случилось, что я стал не таким, как все? … — переливает юный Гамлет из пустого в порожнее. — Может, оттого, что боялся… боялся быть, как все».
«Молодежной» ленте полагалось быть легкокрылой — здесь же представало некое… угасание смолоду. Эта тема в регистре «лирического гротеска» проигрывалась образом того персонажа, ради которого, собственно, фильм Соколова и засматривали до дыр. Заведомо «неправильный», но неотразимо киногеничный герой и здесь, как водится, сам по себе обращал в прах постные добродетели тех, кто назначался служить ему примером.
Каждая капля правды «уравновешивалась» здесь показом «светлых сторон» советской жизни, и сталинизм начинал выглядеть ее случайным и мимолетным явлением.
Морская фуражка набекрень, тонкие усики, галстук с узором, драгоценная коллекция импортного винила с огневыми хитами Элвиса Пресли — портового стилягу Ричарда блестяще сыграл Леонид Быков. Популярность Быкову принесли роли простодушных пареньков из самого что ни на есть народа — в «Мостах» он тоже играет скорее милого чудака, чем злостного отщепенца с плаката «Не проходите мимо». Наивно и томно грезит Ричард о девочках с пляжа Копакабана и призывных огнях заморских городов: «…вокруг бары, джазы, рестораны…», но вот уже вместо лихой фуражки на нем оказывается затрапезная кепка, а руку оттягивает авоська с картошкой. Сынок Витька играется с воздушным шариком, купленным в честь выходного дня, а папка любовно вытирает ему нос — вполне себе образцовая обывательская гавань. «Сказки — сказками, будни — буднями», как язвительно пропел Александр Галич.

В фильме Соколова «Друзья и годы» (1965) реальность тоже перетирала беспочвенные иллюзии, уже социальные и массовые. Этот раздумчивый настрой киноромана о целом советском тридцатилетии, с канунов большого террора до времен оттепели, сам по себе выглядел вызывающим — кому же не известно, что историческое движение нашей державы, позабывшей счет сокрушительным победам, было сплошь поступательным и наступательным?
В 1961 году население в кои-то веки было изумлено взрывными разоблачениями, несущимися из радиоточек — XXII съезд КПСС вновь, но уже открыто и громогласно, осуждал культ личности. Тема недавних репрессий, давно рвавшаяся на экраны, была легализована, однако… Когда весь мир, включая и его «шестую часть», уже прочел «Один день Ивана Денисовича», кино осуждало сталинизм с недомолвками и бесконечными оговорками о мудрости партии, положившей конец отдельным беззакониям. Каждая капля правды «уравновешивалась» здесь показом «светлых сторон» советской жизни, и сталинизм начинал выглядеть ее случайным и мимолетным явлением, почти недоразумением, легким облачком, тающим на фоне небесной лазури.
Со снятием Хрущева стали сворачивать и эту дозированную «критику со спущенными штанами». Фильму Соколова еще «повезло» — он возник в тот зыбкий переходный момент, когда «верхи» толком не определились, что еще можно, а чего уже нельзя показывать на экране. И на всякий случай из этой и других социальных лент принялись вычищать все, слишком рвавшееся «за флажки».

Так, замечательный оператор Эдуард Розовский с возмущением рассказывал мне, как из фильма «Друзья и годы» вырезались мощно организованные кадры посещения Сталиным оперы «Великая дружба». Трудно сказать, как изменили бы они звучание ленты, однако вместо конкретной оперы Вано Мурадели, зверски изруганной тем же Сталиным в известном Постановлении Политбюро ЦК ВКП (б) от 10.02.1948, на экране предстал образец типового искусства послевоенных лет — пышное зрелище с колхозными пирами, толстыми снопами, народными хорами и сольными ариями передовых агрономов, парторгов и генералов.
Интриги плетутся, и расчетливые доносы организуются этой породой не только в служебных кабинетах, но часто и во время блуда «на стороне».
Совсем в духе кино двадцатых, любившего кричащие контрасты, смонтированные встык, — кадры бурного бутафорского ликования ставились сразу после изображения нищих, побирающихся на станциях, и картин умирающей послевоенной деревни. Возникал образ расписной ширмы для сокрытия реальности — словом, вырастало то самое «обобщение», которого власти страшились как огня. Ведь критика культа личности допускалась лишь с «правильных», то есть партийных позиций, без «очернительства» и всяких там обобщений, затрагивающих основы строя.
Одно из таких назревавших обобщений цензура предотвратила. Люда, героиня фильма, погибала на глухом ночном полустанке, сбитая где-то за кадром грузовиком упившегося водителя. До нелепости странен такой обрыв линии ее судьбы, однако… В главе «Январь 1953-го» авторы хотели изобразить эпоху политических убийств, которые на исходе сталинского правления не раз обретали черты зловещих изобретательных инсценировок. Смерть Людмилы виделась им экранной рифмой к обстоятельствам гибели Соломона Михоэлса, живым положенного под грузовик и ночью выброшенного на задворки Минска.

Однако, убирая или смягчая слишком зримые черты репрессивной реальности, цензоры не замечали — или делали вид, что не замечают, — те образные обертоны действия, что рождали не менее острые смыслы, чем обличения, сказанные в упор.
Так, в главе «Август 1934-го» герои обсуждают «Ночь длинных ножей», когда нацисты истребили вроде «своих» же штурмовиков. Слова старого большевика: «Одни бандиты режут других», — взрывчато предваряют следующую главу фильма, названную «Июль 1937-го». «Ножи», только отечественного производства, нацелены здесь уже на самого этого бойца «старой гвардии»… таких же, выходит, бандитов, что и их палачи? …
Если использовать формулу Ницше, то здесь изображалось рождение войны из духа музыки.
Сцена перед арестом Матвея Печерского, в которой тягучие паузы прерываются односложными фразами, вроде бы не идущими к делу, — одна из сильнейших в нашем кино. Редкие волосы, очки в роговой оправе, костяное лицо аскета-начетчика — иссохший, как мумия, он привычно разворачивает газету, с книжкой его и не представить. «Нравится мне Дунаевский… — совершенно искренне, а вовсе не из показной благонамеренности, изрекает Матвей Михайлович. — Я не знаю, что говорят специалисты, но, по-моему, он как-то почувствовал молодость нашей страны». Жалко и дико звучат эти речи в просторной стандартной квартире уже обреченного аппаратчика, где сам воздух словно оцепенел от предчувствия того, что произойдет с минуты на минуту.

И с неизбежностью раздается другая, истинная музыка вечно молодой страны: сверлящий звонок телефона, в трубке которого молчат, проверяя: дома ли? Не бить же зря ноги по лестницам. Уже потом звонят в дверь.
А вот первомайские гуляния — с песнями, плясками и подобострастными частушками: «Эх, топни нога, ягода малинова! Мы по радио вчера слушали Калинина! …» Массовик, полноватый распаренный дядечка, одной рукой дирижирует, другой — держит свиток со словами популярного марша, которые праздничный, по-весеннему принарядившийся народ с бездумной готовностью подхватывает, как бы уже созревая для подвигов и завоеваний: «Блестя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход…» Распялив рот в безумной и радостной, будто он перегрелся на солнышке, улыбке, массовик вконец распаляется от воинственных ритмов, зычно подхваченных военным оркестром, играющим с открытой эстрады под транспарантом «Не забывайте о капиталистическом окружении!» И вот уже под наступательные раскаты того же марша грохочут по рельсам эшелоны с военной техникой, и в фонограмму фильма вплетаются слова сообщения о «вероломном нападении», словно развеиваясь над морем с его тающими у горизонта далями и накатывающимися на берег пенистыми барашками: «Мы не хотели этой войны, нам её навязали…»
Тончайшая рифма к вольному или невольному выводу ленты о внутренней неизменности режима.
Однако само строение экранного фрагмента, где май 1941-го соскальзывает в роковой июнь, не подтверждало этот тезис, ясно показывая, что войны вызревают в душах людей, а уже потом выплескиваются вовне. Если использовать формулу Ницше, то здесь изображалось рождение войны из духа музыки.

Из фильма выскоблены даже упоминания Сталина, что парадоксальным образом как-то даже обострило его смыслы — репрессии казались здесь не следствием «отдельно взятой» злой воли, а сутью и воздухом советской реальности. В главе «Октябрь 1949-го» изображен этакий «обыкновенный сталинизм», пронизавший все связи и отношения внутри среднего звена той номенклатуры, которую Милован Джилас назвал «новым классом». Интриги плетутся, и расчетливые доносы организуются этой породой не только в служебных кабинетах, но часто и во время блуда «на стороне» — тайных свиданий, ставших столь же постылой обыденностью и едва ли не обязанностью, что и пребывание на законном супружеском ложе. Условия выживания в кастовом обществе, пропитанном страхом и предательствами, ставшими привычкой, Юрий Трифонов выводил из родовых свойств системы — кинороман Соколова, близкий по тональности «поздним» произведениям Трифонова, лет на десять опередил их появление.
Интонации Антониони просто облучили и лучшее отечественное кино шестидесятых.
Наталью Антонову мало снимали, хотя здесь она показала себя тонкой и умной драматической актрисой с явным тяготением к «звездным» ролям «женщин-вамп». Сыгранная ею Надя — то замарашка-золушка с косичками и косолапой походкой, то вальяжная и хищная пантера от номенклатуры, карающая и милующая лиц мужского пола в зависимости от капризов и прихотей своей неуемной плоти. Она способна сливаться с любым фоном и приноравливаться к любым обстоятельствам — и гардероб этого хамелеона укомплектован, так сказать, в полном согласии с текущим историческим моментом. На дворе — конец сороковых с их культом регалий, а на Наде — приталенный, ладно сидящий мундирчик бойца каких-то там шибко влиятельных органов. Грянул «поздний реабилитанс» — на ней изящное неброское пальтецо, а волосы гладко зачесаны и уложены сзади валиком: Надя «демократизировалась» вместе с эпохой. В веселые шестидесятые у нее мальчишечья стрижка и легкомысленная блузка в полоску… Этот образ — тончайшая рифма к вольному или невольному выводу ленты о внутренней неизменности режима, вынужденного лавировать и из тактических соображений камуфлировать свою неприглядную сущность.

После пощечин и злых слез вновь катятся по кругу измены, бессонница и грязные выяснения отношений.
Но самыми взрывными обобщениями заряжена глава, от которой ничего такого вроде не ожидалось, — «Август 1960-го». Оттепель, южное море, курортный сезон, живи да радуйся — ни войн тебе, ни репрессий. «Гости съезжались на дачу» — гениально начинал поэт незавершенную повесть. У Соколова — вальяжные доносчики вместе с заслуженным карателем «съезжаются» чествовать чету либеральных обывателей, доблести которых сводились к умению с застенчивыми ужимками и под самыми убедительными предлогами ускользать от сколь-нибудь значимого гражданского поступка. Застолье собирает главных творцов славной эпохи, и эти посиделки с тостами, танцами, приставанием к чужим женам и выпивкой на брудершафт ощущаются как слет вурдалаков и приговор поколению.
Экранные структуры преобразовал Микеланджело Антониони, аналитик одиночества, поэт беспокойства, урбанист и философ. Процессы, которые он исследовал, охватили не один Запад, так что интонации Антониони просто облучили и лучшее отечественное кино шестидесятых. Немудрено — надежды первых лет оттепели развеивались, и советская современность часто изображалась экраном как время тоскливой неопределенности, духовных утрат и разочарований.
Антониони задал точную тональность для изображения интеллектуалов, однако у Соколова ею парадоксальным образом окрашено изображение убогой нечисти номенклатурного разлива и всякой «примкнувшей к ней» слизи. Убогая вечеринка этих верных сынов отечества саркастически снята им в тех же тягучих ритмах, что вялые и тоскливые «оргии», в которых растрачивают себя холеные и праздные персонажи итальянского кино, собирающиеся на фешенебельных виллах.

«Сладко спится палачам по ночам» — саркастически подправила Валерия Новодворская строку Галича, где те спали «плохо». Смысл этой переделки ясен — не представить, чтобы нынешние стирали ночами со своих ладоней проступающие кровавые пятна. Хотя по их беспокойным глазам и словно бы изнуренным именно бессонницей невзрачным лицам ясно видно, что без снотворного они не обходятся. Присаживаются, верно, к ним на краешек постели разнообразные молчаливые тени — а если нет, то этого мы им от всей нашей глубоко миролюбивой души желаем.
У тех героев ленты, что легким испугом отделались за все свои подлости и преступления, остались вместо страстей неутоленные амбиции и животные инстинкты, а вместо друзей — сообщники. Вот и изводят ночами эти невротики хоть сожительниц, хоть законных жен, кто под руку подвернется — благо и те и другие действительно изменяют на каждом шагу. А после пощечин и злых слез вновь катятся по кругу измены, бессонница и грязные выяснения отношений. Содержательная программа, стоило ради нее закладывать свою бессмертную душу. Это вам не красивые блуждания по пустоватым и гулким «городам Антониони», где интеллектуалки Моники Витти или Жанны Моро, словно сошедшие со страниц журнала Vogue, томятся от избытка рефлексий, красоты и неутоленной чувственности.

Москва у Данелии — большой и теплый дом, Питер же у Соколова кажется воплощенной бездомностью.
Фильмом «День солнца и дождя» Соколов как бы исправлялся, уходя от взрывчатых обобщений, всполошивших инстанции. Да и страна готовилась к юбилею советской власти, и на студии решили лишний раз не дразнить обидчивого и ранимого виновника торжества.
Заголовок «Друзья и годы» так и видишь оттиснутым на обложке солидного романа — название же новой ленты Соколова кажется звонкой строкой молодого поэта. Там — эпические «годы», а тут — и всего-то «день», и содержание вроде неопасное: двое мальчишек, с удовольствием и без особой цели послонявшись по Ленинграду, становятся друзьями не разлей вода. После такой аннотации в зал можно не заглядывать, от чего почти отговаривали и критики: есть, мол, в фильме что-то симпатичное, а в целом он, в общем, ни о чем. Мало ли было лент, где обаятельные ребята и девушки, всласть побродив по омоложенным, омытым светлыми дождями улицам и бульварам, беззаботными улыбками провожают день, наполненный милыми пустяками: «Бывает все на свете хорошо…»?
Словно предупреждая этот упрек во вторичности своего фильма, в его фонограмму Соколов вплетает исполнение именно этой песни, в массовом восприятии ставшей главным позывным легкокрылых шестидесятых: ведь такие отсылки обычно используют не для почтительного указания на любезный авторам ориентир, напротив — для декларативного заявления, каким влиятельным образцам они следовать не намерены. Так бодрая мелодия из кинолубка «Кубанские казаки» (1949, реж. И. Пырьев), 1949) звучит в фильме «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967, реж. А. Михалков-Кончаловский), программно снятом под шероховатый документ.
Под сырыми ветрами Питера и вообще-то не приживается беззаботность, выраженная знаменитой лентой «Я шагаю по Москве» (1963, реж. Г. Данелия). Грустны графические виды его, то подернутые туманами поздней осени, то словно исчерченные хлопьями снега, липнущего к щекам, — город окрашивает «молодежный» фильм Соколова печалью, возникающей здесь столь «ниоткуда», что, как пелось совсем по иному поводу, «в чем дело, сразу не поймешь». Оттого, верно, и сама эта песня исполняется у Соколова за кадром на… английском языке, как нечто экзотическое и почти экспортное, неведомо какими ветрами занесенное к невским берегам.

Отличник и шалопай гуляют здесь по городу, прогуливая контрольную. Первого, разумеется, втравил в эту авантюру второй, имеющий репутацию отстающего. Имен мальчиков мы не слышим, одни фамилии — Мухин и Кронов, будто каждый раз их вызывают к доске, — да нехитрые прозвища, произведенные усечением тех же фамилий.
Москва у Данелии — большой и теплый дом, Питер же у Соколова кажется воплощенной бездомностью. И не только оттого, что Кронов живет в коммуналке, а быт его не сахар. Мать давно «в Казахстан смылась с одним военным», отец после работы все «молчит, молчит», старшая сестра Света совсем от рук отбилась, «школу бросила, курить стала…», — рассказывая Мухе про все эти невеселые дела, он то и дело заходится короткими смешками. Визитная карточка Кронова — защитная улыбка до ушей, и сам фильм словно так же бодрится, как и его герой, прикидываясь незатейливой лирической зарисовкой. Но сквозь эти покровы явственно пробиваются сигналы острого социального и даже бытийного неблагополучия.
Есть, однако, более изысканные формы дискредитации социальной реальности, чем нарушение баланса тьмы и света, предписанного цензурой.
Так, проявляя странную осведомленность, Кронов разъясняет наивному Мухе назначение решеток на сумрачном корпусе того популярного у населения стационара, что за пеленой мороси виднеется на берегу Пряжки: «Для припадочных… Чтобы не бросались из окна…» — и честно предупреждает: «Учти, на меня тоже иногда находит…» Или с неожиданной проникновенностью рассказывает про умирающего дельфина с его последней фразой «на чисто английском языке»: «Нас предали…» — после чего добавляет: «Душно, правда? …» — имея в виду, конечно, не то, что помещение, где они оказались, неплохо бы проветрить.

Совсем уж странным выглядел большой и с каким-то ускользающим значением снятый фрагмент, где актриса, знавшая еще Веру Холодную и Эйзенштейна, с чувством и «выражением» читала описание могилы радикала Базарова из романа «Отцы и дети». Тонкой рифмой к этой «могиле» была сцена на киностудии, где снимают пошлейший китч, подаваемый под «историко-революционным» соусом. Напомаженный брюнет в канотье, шикарный Мишка Япончик, театрально раскидывал банкноты, поигрывал пистолетиком и распевал опереточные куплеты на фоне девиц в черных трико, поводящих на эстраде крутыми бедрами. Славная студия словно хоронила высокий историзм своих былых работ, «могила» представала воистину братская.
Как огня, боятся чиновники всякой там «чернухи» в подведомственном им искусстве. В фильме Соколова все вроде в порядке: день, правда, показан исключительно пасмурный, без обещанного названием солнца, однако личные конфликты в нем рассасываются, и он вполне благостно завершается лирическим общим местом. Так что иносказательного солнца, символом которого в трогательной финальной песне выступал «рыжий апельсин», выходило явно больше, чем столь же иносказательного дождя (а дождя натурального в фильме, кстати, и вовсе не было). Есть, однако, более изысканные формы дискредитации социальной реальности, чем нарушение баланса тьмы и света, предписанного цензурой. «Рыжий апельсин» в ленте — не только привычный аксессуар из арсенала поэтического кино вроде яблока, что с хрустом надкусывают влюбленные, а предмет советского дефицита, и мы даже узнаём, сколько он стоит.
Прямо напротив Казанского собора мальчишки с удовольствием дуют из столовских стаканов мутную бурду — так называемый кофе с молоком.
«Что расскажут польские фильмы нашим внукам, которые будут жить, скажем, в 2000 году, о сегодняшней жизни страны? Узнают ли они из них о том, как выглядела Польша — ее города и села, — о том, как мы вели себя, как одевались?»1 — спрашивал в начале шестидесятых польский киновед Болеслав Михалек.
1 Михалек Б. Заметки о польском кино // Яницкий C. Польские кинематографисты о себе. М.: Искусство, 1964. С. 25.

В ленте Соколова — масса информации такого рода, пускай и не о Польше. Грядущие поколения узнают, что на пятидесятом году советской власти коробок спичек стоил копейку, и, если в кассе магазина не случалось мелочи, то сдачу этими коробками и выдавали, что апельсины стоили «недешево» — целых полтора рубля за кило, да и нечасто видели их в городе на Неве. «Откуда такая роскошь?» — сразу вырывается у Кронова, когда батя-таксист дает ему апельсин, наставляя прямо по-фронтовому: «Поделись с товарищем». Изящная шляпка, к которой приценивается юная Светлана, стоит шесть пятьдесят — и тоже отмечается, что «недешево».
Рельефно отражены в фильме и достижения общепита, памятные всем, совершавшим в те годы романтические прогулки по великому городу. Прямо напротив Казанского собора мальчишки с удовольствием дуют из столовских стаканов мутную бурду — так называемый кофе с молоком, а в галерее Пассажа та же Светлана, милая блондинка с печальными глазами, вздернутым носиком и низко подрезанной челкой, привычно уплетает пирожок, церемонно прихватив его бумажкой — известно же, как сочилось это обжаренное изделие жирным маслом. Света работает в аптеке, но личное здоровье, не говоря уж о красотах девичьей фигуры, ее, видно, не слишком занимает, как и многих барышень в те безалаберные времена, когда население, не имевшее представления о стандартах сервиса и питания, от мала до велика трескало без разбора где попало, что попало и как попало, еще и нахваливая все подряд.
В образной структуре лучших лент Соколова всегда оставался некий нематериальный осадок, независимый от их внешнего действия и заданных установок.
Образы героев словно формирует здесь сама повседневность — схваченная как есть, когда авторам уже некогда делить явления на важные и неважные: успеть бы здесь и сейчас зафиксировать именно эту точку социальной реальности! Но это ведь родовое свойство французской «новой волны», герой которой, взяв газету, вышедшую в день съемок, может азартно комментировать страницу с репертуаром кинотеатров Парижа, как это происходит в фильме «Мамочка и шлюха» (1973, реж. Ж. Эсташ), позднем образце направления.
«Новая волна» — движение киноманов, и ткань их лент пропитана отсылками к разнообразным кадрам, фильмам и прочим экранным материям. Как на работу, герои здесь ходят в кино и, словно с некой инспекцией, заявляются на съемочные площадки, а с «культовыми» персонами запросто сталкиваются где угодно, хоть в кафе с самой Брижит Бардо, как в ленте «Мужское / женское» (1966, реж. Ж.-Л. Годар).

Но — цитаты подкрашивают действие и у Соколова, а его юные герои тоже идут в кино, и не куда-нибудь, а во Дворец культуры им. А.М. Горького, и показывают в этом шедевре конструктивизма фильм именно французский, «Сильные мира сего». Афиша с репертуаром Дворца культуры вообще открывается лентой фэксов (!) «Чертово колесо», никогда не выпускавшейся в повторный прокат, — это название фигурирует в кадре явно из киноманского озорства.
Совсем как герои «новой волны», мальчики попадают даже на киностудию, и не на какую-то там «обобщенную», а на самый что ни на есть натуральный «Ленфильм». В роли Мишки Япончика блистает там опять же натуральный, названный прямо по фамилии Михаил Козаков. «Тот самый, из «Человека-амфибии»», — пожирает глазами кинозвезду Кронов. Легко подумать, что, показывая съемки вымышленного фильма, авторы пародируют низкопробную поделку вообще, но на экране есть его название — «На рассвете», а это реальная новинка тех лет, скандальная оперетта Григория Плоткина, где бандит Мишка Япончик крутил любовь с самой Верой Холодной, и любители кино не могли не оскорбиться за королеву экрана.
«Ружья» Чехова заряжались смыслами, а не патронами.
Казенная критика глухо ворчала — авторы фильма видят, мол, одно мрачное, — но ее раздражала, по сути, «недолжная» эстетика, а она всегда тянет за собой и «недолжные» социальные смыслы. Про непринужденную композицию фильма «Я шагаю по Москве» Ростислав Юренев писал: «Не вижу в ней стержневой, обобщающей мысли, не вижу позиции художников»2 .
2 Юренев Р. Один день юных (1964) // Юренев Р. Книга фильмов. Статьи и рецензии разных лет. М.: Искусство, 1981. С. 223.

Однако эстетика «новой волны» сама по себе отменяет идеологическое деление на черное и белое, во главу угла ставя свободу, вполне неотъемлемую от свободы повествования. Причина неприятия догматиками подобных лент — в том, что они показывают людей, живущих своими заботами, страстями и устремлениями, вообще не зависящими от того, с какой ноги встанет сегодня вождь или его подручные.
Позже Соколов словно ускользал от прямых и тем более нелицеприятных высказываний о современности, работая с аллюзиями и внутренними смыслами, как это было, скажем в телевизионном фильме «Моя жизнь» (1972), поставленном им вместе с Григорием Никулиным по повести Чехова. Мисаил — его главный герой, меняющий не только изначально постылые для него места казенной службы, но и формы самореализации, — органично вписывался в череду «лишних людей» советских семидесятых — трагических отщепенцев, неприкаянных интеллигентов и обаятельных неудачников. А в недооцененном фильме «Я — актриса» словно бы сам пряный и губительный мир стиля модерн сживал со свету Веру Комиссаржевскую…

Первого ноября 1889-го Чехов писал драматургу А.С. Лазареву-Грузинскому: «Нельзя ставить на сцену заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него», — о том, что это ружье должно выстрелить, и непременно под занавес, и речи здесь не шло: «ружья» Чехова заряжались смыслами, а не патронами. И точно так же в образной структуре лучших лент Соколова всегда оставался некий нематериальный осадок, независимый от их внешнего действия и заданных установок.
Говорил же Мисаил, что «самое страшное в жизни происходит за кулисами»…