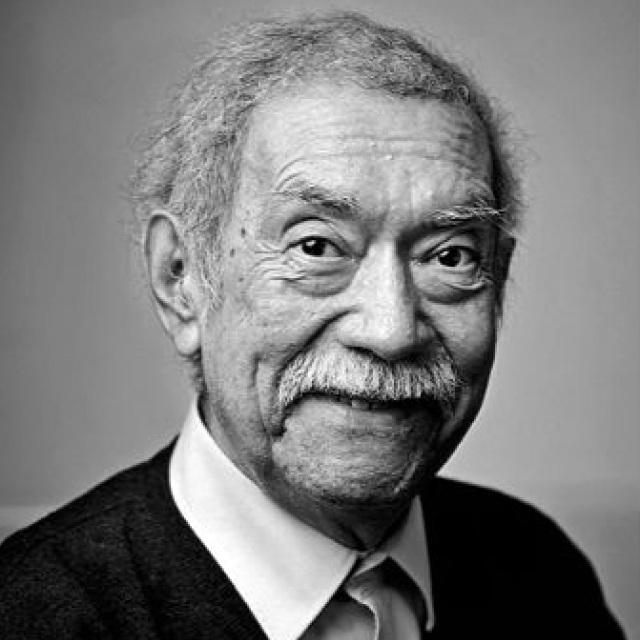В защиту шаманского кинo
СЕАНС — 49/50
Подобно Америке, кинематограф был открыт несколько раз. Pука первобытного человека, прижатая к стене пещеры и осыпанная горстью ярко-красного порошка, — самое первое механическое воспроизведение образа; симуляторы (полупрозрачные демоны воздуха, описанные Гермесом Трисмегистом); тени — до и после Платона; Голем; театр зеркал Афанасия Кирхера; шотландский туман, воспроизводящий увеличенные силуэты прохожих, о котором упоминает Джеймс Хогг в «Тайных записках и признаниях оправданного грешника»; небо над портом Пунто Аренас в Чили, отражающее перевернутые виды города, каким он был полвека тому назад; фантаскоп Робертсона; волшебные бабочки на Кони-Айленд — все эти изобретения и явления по-своему предвосхитили кино. В начале нашего столетия они слились воедино в киноискусстве, которое тут же выродилось в киноиндустрию. Подобно Америке, кинематограф развивался одновременно в двух направлениях: как индустрия и как утопия.

В своей индустриальной ипостаси кино — это хищник. Это машина для копирования видимого мира и книга для тех, кто не умеет читать. Традиция, начатая стоиками и продолженная Леоном Эбрео, Ибн-Туфейлем и Кальдероном де ла Барка, описывает видимый мир как книгу Бога. Эта книга учит нас науке, которой не может обучить ни один другой источник знаний. И ни одна другая книга не написана лучше, чем эта: для того чтобы читать ее, необходимы только чистое сердце и пустая голова — что здесь действительно нужно, так это своего рода docta ignorantia (ученое незнание). Кино является идеальным бастионом для выпадов против культуры. Какая предварительная подготовка, какой культурный багаж требуется для понимания фильма? И то и другое всегда будет не более чем препятствием. Это напоминает мне доводы, высказанные защитниками безграмотности во времена испанского Золотого века. Так, Филипп II создал Совет Безграмотных — якобы для того, чтобы извлечь пользу из мнения невинных, но в действительности — с тем, чтобы отстранить евреев от принятия государственных решений. Мне также приходит на ум персонаж «Верности в борьбе с завистью» драматурга Тирсо де Молины, утверждавший, что неграмотность — это верный признак принадлежности к аристократии. Если книга мира учит нас всему, что мы должны знать, разве она тем самым не делает все прочие книги излишними? Кинематограф — не что иное, как фотокопия книги мира, и он делает ненужными не только другие книги, но и все остальные искусства.

С другой стороны, утописты видели в кино совершенно новый вид искусства или, по крайней мере, уникальную дисциплину, требующую новых теорий, новых условностей, новых инструментов для переосмысления видимого мира. Взаимоотношения между утопистами и индустрией становились все более сложными. На сегодняшний день уже трудно понять, является ли современная гипериндустриализация кинематографа благоприятной для утопии, поскольку снабжает ее дешевым техническим материалом, или же утопические объекты, которые в индустрии принято называть прототипами1, фактически способствуют этой гипериндустриализации. Несколько лет назад у меня была идея для фильма: пари между Жоржем Мельесом и братьями Люмьерами — кто снимет лучшую версию «80 дней вокруг света» для показа на Всемирной ярмарке 1900 года в Париже. Не зная, какому проекту отдать предпочтение, спонсоры направляются за советом к самому Жюлю Верну. Писатель одобряет оба проекта; таким образом, и Мельесу, и Люмьерам дается 80 дней на съемки фильма. Люмьеры проводят эти 80 дней, путешествуя вокруг света с кинокамерой, в то время как Мельес решает остаться в Париже, где при помощи спецэффектов воспроизводит путешествие в собственной студии. Мне кажется, что эта апокрифическая история резюмирует все проблемы, которые я собираюсь затронуть в данной главе. По меньшей мере, она иллюстрирует различие между натурализмом и искусственностью, между индустриальным и ремесленным подходом, — в минувшую эпоху это различие, вероятно, определили бы как разницу между наукой и колдовством (пленение чьей-то души с помощью колдовства по-испански называется hechizo, что означает одновременно «чары» и «артефакт»).
1 Прототип — в данном случае: фильм, на котором обкатываются новые парадигмы и (или) который является толчком для технологических, промышленных, финансовых изменений (Здесь
и далее примеч. пер.).

Историю кино можно рассматривать как непрерывное наращивание и постоянную (или периодическую) конфронтацию этих двух тенденций. Но есть еще и третий элемент, усложняющий ситуацию: на поле боя вышли художники и интеллектуалы. Первые стремились углубить свои дисциплины или же создать новое тотальное искусство, вторые искали новые инструменты рефлексии. Вторжение художников и интеллектуалов в сферу кино способствовало рождению того, что называется первым авангардом: Деллюк, Кокто и Кавальканти, но также Мурнау, Флаэрти и Йорис Ивенс. На полках моей домашней видеотеки эти режиссеры разделены на две категории. Моя классификация является примечанием к теории Каро Бахоры, утверждавшего, что карнавалы можно объяснить либо через их связь с традицией, либо допустив их внезапное появление ниоткуда. В первую группу входят так называемые филиационисты2 — режиссеры, обратившиеся к истокам кинематографа и пытавшиеся истолковать его через посредство уже существующих дисциплин: в ход пошли китайские идеограммы (Эйзенштейн), западный синтаксис (Бела Балаш, считавший движения камеры глаголами, ракурсы — прилагательными, а персонажей — существительными), а также павловская физиология (Кулешов). Другую группу я окрестил аппариционистами3. Режиссеров, входящих в эту категорию — Бунюэля, Виго и Вертова, — можно с таким же успехом назвать волшебниками. Они отдавали предпочтение экспериментам, изысканиям, алхимическим силам и головокружению (Ламетри назвал бы их «темными»). Я полагаю, что если бы Эрнст Майер был кинокритиком, он бы классифицировал первую группу как филогенетическую, а вторую — как онтогенетическую. Режиссеры, принадлежащие к первой категории, считают кино естественным продуктом эволюции изящных искусств. Те же, кто относится ко второй категории, считают его самобытным и неожиданным феноменом. И несмотря на то, что многое предвосхищало феномен кино, его рождение все равно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Это был скорее террористический акт, чем результат кризиса пластических искусств. Первый авангард продержался совсем недолго и был социально и географически ограничен Францией, или, в самом крупном масштабе, Европой. В него было вовлечено не более двух тысяч человек.
Меня всегда интересовали фильмы, которые — где бы они ни были сделаны — в некотором смысле уникальны.
Позже появились другие авангарды, но и они были кратковременны — их неизбежно поглощала индустриальная масса. Фактически историю кино можно рассматривать как серию мини-революций, обезглавленных индустрией, не только в Америке, но и в Европе. И, как это ни парадоксально, киноиндустрии Франции, Англии и Италии были куда более враждебны к экспериментаторству, чем индустрия Америки. Авангардное кино так и не смогло найти своего зрителя и, как ни странно, подверглось нападкам со стороны европейских интеллектуалов и художников, которые видели больше новшеств в фильмах Бастера Китона, чем в «Механическом балете» (Ballet mécanique, 1924) Фернана Леже или в «Антракте» (Entr’acte, 1924) Рене Клера. В конечном счете неприятие экспериментаторства было оправдано стремлением создать «великую популярную культуру». Тогда вновь воскресала надежда охватить максимально возможное число зрителей, не упрощая при этом выразительных средств. Это были годы программной музыки (Блицстайн, Копленд, Кабалевский), политического театра (Пискатор, Мейерхольд) и Баухауса; время, когда экспериментаторство пыталось стать «отделом исследований и разработок» на службе у индустрии. Таким образом, кинематограф вернулся в лоно индустрии, где и оставался до середины пятидесятых годов. В то время в Соединенных Штатах, но также и в Европе, Латинской Америке и Японии, начали появляться небольшие продюсерские компании, пытавшиеся радикально изменить подход к кинопроизводству. Эти изменения стали возможными благодаря рождению идеологий контркультуры, вкупе с новыми технологиями, такими как портативные кинокамеры, синхронная запись звука и более чувствительная кинопленка. Закрытие больших студий и появление телевидения завершили процесс трансформации — и аудиовизуальный ландшафт стал почти неузнаваем. Авангард вернулся, и кино снова обратилось к экспериментаторству. Произошла революция методов кинопроизводства. Но на этот раз у авангарда появилась своя аудитория, свои критики и функционирующая система проката. Около пятнадцати лет авангардное кино находилось на авансцене. Вскоре, впрочем, реклама сделала его банальным, а коммерческое кино научилось подражать кажущейся небрежности экспериментальных фильмов, хотя и не стремилось шокировать. Между тем в дискурс авангарда проникла политическая риторика, усугубившая разрыв между теми, кто свято верил в новую поп-культуру, и теми, кто с головой нырнул в нарочитое экспериментаторство. Очень скоро на смену безрассудным излишествам и буйству произвола пришел период нормализации индустрии — но на этот раз были предприняты определенные меры, чтобы обеспечить необратимость процесса реиндустриализации. Тактика действий включала в себя катастрофическое повышение производственных затрат, жесткое разделение труда между разными кинопрофессиями, тщательный контроль за стандартами кинопродукции — такими, как написание сценариев, продолжительность фильмов, подбор актеров, использование цвета и т. д. Иными словами, вполне сознательно создавалась путаница между понятием стандарта и высокого качества. В Европе ту же функцию выполняли вновь созданные государственные фонды, часто обеспечивающие стопроцентное финансирование фильмов при условии соблюдения стандартов, установленных государством. Иначе говоря, политические приоритеты вытеснили приоритеты художественные.
2 Филиация (от лат. filialis — сыновний) — развитие чего-либо в преемственной связи, в прямой зависимости.
3 Apparition — появление, явление; видение, привидение (фр.).

Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что этот краткий экскурс в историю кино может показаться излишне упрощенным даже тем из вас, кто в принципе согласен с моим анализом. Термин «авангард», конечно же, не слишком точен: разным видам авангарда всегда удавалось выжить, но все они рано или поздно оказывались заражены моралью, притеснены, становились выхолощенными и скучными. Тем не менее я считаю мой анализ верным, если слова «индустриальный» и «авангардный», «коммерческий» и «художественный» будут заменены понятиями конвейерного производства и артизанства (artisanat). И моя точка зрения отнюдь не беспристрастна. Меня всегда интересовали фильмы, которые — где бы они ни были сделаны — в некотором смысле уникальны. Фильмы рукодельные, сделанные «в домашних условиях», кустарные. И здесь мы сталкиваемся с почти неразрешимой двусмысленностью. Является ли такой ремесленный, кустарный продукт дешевым по определению? Конечно же, нет. Ремесло, или métier, лежит в основе французского индустриального кино. Главная киношкола Франции носит название Европейский институт ремесел изображения и звука, и цель этого учреждения — разделить искусство кинопроизводства на составные части. Естественно, все киноремесла независимы друг от друга и в то же время взаимосвязаны, согласно жесткому своду производственных стандартов. Эти правила очень похожи на те, что и по сей день приняты в «Союзе подмастерьев» (компаньонаже, объединяющем наследников традиции, заложенной еще строителями кафедральных соборов)4. Неудивительно, что фильмы часто сравнивают с соборами. В такой системе каждый составляющий элемент совершенного произведения должен быть совершенен. Несмотря на то что каждый из этих элементов есть продукт ремесленного труда, объединяющее их целое является вполне промышленным продуктом. Но промышленность руководствуется не коммерческими, а политическими соображениями.
4 Compagnons du Devoir — организация французских ремесленников, основанная в XIV в. и существующая до наших дней. Имеет тайный устав и мистические обряды, схожие с масонскими.
Мне кажется, что у этих двух видов кино существует альтернатива. Она тоже может включать в себя некоторые элементы старомодного артизанства (например, ручную обработку целлулоида или видеопленки) и дух изобретательства. Но главный принцип не имеет ничего общего с ремесленничеством, ибо основной целью здесь является создание поэтических объектов. Правила, необходимые для понимания этих объектов, уникальны для каждого из фильмов. Каждый зритель должен открыть их для себя сам; в сущности, их нельзя описать ни a priori, ни a posteriori. Одним словом, это кино, про которое нельзя спросить: «О чем этот фильм?». Великий французский кинокритик Серж Даней, описывая отличие таких единственных в своем роде фильмов от рабских продуктов киноиндустрии, прибегал к сравнению между настоящим путешествием и организованным туром по путевке. Прелесть настоящего путешествия — в магических случайностях, открытиях, необъяснимых чудесах и впустую потраченном времени, тогда как радость туризма состоит в мазохистском следовании установленной программе.

Но если кино действительно является искусством смешивания и комбинирования разрозненных образов, можем ли мы бунтовать против индустриальных стандартов, не порождая при этом чудовищ? Вполне возможно, что уникальные фильмы как раз и представляют собой таких монстров, хотя, на мой взгляд, их «чудовищность» гораздо ближе к нашей жизни, чем повествования, подчиняющиеся нормам индустрии. Давайте рассмотрим экстремальный пример, антипод традиционного кино. Попробуем снять абстрактную версию человеческой жизни день за днем на протяжении недели, не пытаясь при этом отобрать наиболее драматические моменты. Затем сконструируем монтажные эпизоды из всех планов, где люди входят в дом или выходят из него, где они выпивают стакан молока или чихают. Затем мы сможем использовать эти каталоги эпизодов-действий для создания отдельных визуальных рядов: «Молоко», «Чихание», «Выходы». Мы также можем построить другие визуальные ряды, основываясь на новых, совершенно произвольных правилах серийности: например, используя стакан молока или выход из дома в качестве повторяющегося элемента. Затем мы соединим эти эпизоды, основываясь на какой-нибудь произвольной аналогии. Назовем каждый из этих визуальных рядов маленьким монстром. Естественно, все эти маленькие монстры имеют общие характерные черты, поскольку происходят из одного общего каталога. При этом все они принадлежат разным континуумам, имеют разный хронометраж — даже несмотря на то что все они происходят в течение одного общего времени. Сопоставление этих маленьких монстров порождает большого монстра, взаимоотношение между составными частями которого остается неочевидным. Тем не менее просмотр всего фильма или любой его части пробуждает в зрителе воспоминание о целой неделе — не обязательно той самой, во время которой происходили съемки, а просто недели, какой угодно, но в то же время совершенно конкретной. Эта неделя никогда не была прожита в реальности, но тем не менее представляется совершенно реальной.
Все мы располагаем колоссальным числом потенциальных киноэпизодов, которые сосуществуют в компактном пространстве и времени нашей памяти.
Это упражнение (хорошо знакомое так называемым режиссерам-структуралистам 70-х годов) — пример того, что можно назвать шаманством в кино, поскольку эпизод, произвольно вырванный из жизни, не только не прослеживает жизнь какого-то определенного человека, но и не символизирует и не представляет в сжатом виде обычную неделю. В некотором смысле этот ритуальный эпизод заставляет нас переместиться в потусторонний мир, населенный призраками утраченного времени. Но можем ли мы быть до конца уверены в том, что наш выбор фрагментов из жизни абсолютно произволен? В комбинаторике нет ничего абсолютно произвольного, поскольку комбинации неизбежно порождают смыслы. Для данного конкретного случая я хотел бы предложить критерий выбора, позаимствованный из широко известной полемики биологов XIX века — речь идет о «Споре об аналогах», который произошел между Кювье и Сент-Илером. Кювье предлагал классификацию, делившую животных на четыре отличных друг от друга семейства, как если бы у природы было четыре независимых системы развития. С другой стороны, Сент-Илер считал, что существует единый план строения, согласно которому животные различных биологических видов способны развивать аналогичные свойства или органы. Так, например, отдельные особи могут иметь когти и пальцы, несмотря на свою принадлежность к разным видам (птицы, люди или земноводные).

Вернемся к нашим монстрам. Мы попытаемся показать их двумя способами: группируя эпизоды либо на основании их формальных характеристик (по принципу Кювье), либо по принципу единого действия (по Сент-Илеру). В первом случае мы получим различные морфологии одной и той же недели, во втором — физиологию разрозненных событий, из которых состояла неделя. В то время как первый подход поможет нам вспомнить и воссоздать «фильм событий недели», второй способ сможет возродить эмоции, окрашивавшие отдельные моменты. Эти два типа отрывков из жизни схожи друг с другом, поскольку обладают способностью пробудить или вызвать из видимых зрителю образов уже совершенно другие мгновения. Мгновения, которые не были прожиты никем в отдельности, но частично — каждым из нас, таким образом формируя наш общий «семейный» жизненный опыт. И в этом заключается главная проблема. В данном случае задачей фильма является установление связи не между нами, а с потусторонним миром. Но что такое потусторонний мир? Поставим себя на место зрителя. Ассоциативная память работает таким образом, что эпизоды, которые на самом деле не произошли в строгой последовательности, оказываются сопоставленными друг с другом в наших воспоминаниях.
Самым близким в изображении для нас всегда является образ другого человеческого существа.
Все мы располагаем колоссальным числом потенциальных киноэпизодов, которые сосуществуют в компактном пространстве и времени нашей памяти. Они взаимозаменяемы, они наслаиваются друг на друга. Все эти фильмы дремлют внутри нас. Заурядный нарративный фильм снабжает нас обширной средой, в которой эти потенциальные киноэпизоды рассеиваются и исчезают. Шаманский фильм, напротив, представляет собой настоящее минное поле. Каждый взрыв вызывает цепную реакцию среди наших внутренних киноэпизодов и позволяет воплотиться уже совсем другим событиям. Точно так же шаманские эпизоды заставляют нас поверить в то, что мы помним о происшествиях, которые никогда не случались в нашей жизни. Они сводят эти сфабрикованные воспоминания с подлинными воспоминаниями о событиях, которые, как нам казалось, были навсегда забыты и которые вдруг воскресают и начинают наступать на нас, подобно живым мертвецам из фильма ужасов. Описанный механизм представляет собой первый этап процесса, который может позволить нам перейти из нашего человеческого мира в царство животных, растений, минералов и даже звезд, прежде чем снова вернуться в мир людей. Все это, конечно, не больше чем сжатое изложение поэтической системы, но и этого вполне достаточно для того, чтобы найти способ снимать фильмы, существенно отличающиеся от обычного нарративного кино.

Элемир Золла понимал алхимию как проявление благожелательности к животному, растительному и неорганическому миру. В нашем случае такая благожелательность будет состоять лишь в равномерном распределении внимания или любви на все, что находится в кадре, или на то, что (к) нам ближе всего. Это внимание по меньшей мере равно тому, что мы уделяем персонажам разыгрываемой перед нами истории. Для этого необходимо заставить себя забыть, что самым близким в изображении для нас всегда является образ другого человеческого существа. Возьмем, к примеру, картину Дун Юаня под названием «Деревенские крестьяне приветствуют Дракона». Дракон здесь обозначает Императора. При первом взгляде на картину мы не увидим ничего кроме горного пейзажа. Присмотревшись внимательнее, мы заметим — не в центре, а в нижнем левом углу картины — пару маленьких белых точек, а еще несколько выше и левее, почти на краю полотна, еще несколько белых точек, гораздо мельче первых. Первая группа этих крохотных точек-муравьев изображает толпу крестьян, вторая — Императора и его свиту. Многие толкователи этой картины почтительно замечают, что вся природа кажется застывшей в ожидании Императора. Однако наш взгляд блуждает, скользя по изображению, и теряется в непреодолимо завораживающей пустоте по ту сторону гор. Подобное благочестивое равнодушие к человеческим формам и трепетное уважение к пейзажу, в который они помещены, характерно для многих образцов китайской живописи. Фотографии Анселя Адамса вызывают у нас похожее ощущение. Разница заключается в том, что в работах Адамса мы осознаем, что по ту сторону объектива находится человек. Это присутствие человека вызывает у нас головокружение, и мы начинаем метаться между фотографом и фотографией, пока пейзаж постепенно не начинает заселяться призраками и привидениями — виртуальными тенями человека по ту сторону камеры, сливающимися с природой на фотографии.

В 1925 году поэт Сен-Поль Ру пророчествовал:
Сначала: 1) все изображения будут содержаться в закрытом пространстве — театре или храме; затем 2) они могут быть вызваны индивидуально, один за другим… или целыми группами, по требованию зрителей, вами или мною — любым, у кого есть устройство для вызывания изображений; они придут по нашему первому зову, Чаплины и Пикфорд будущего, и мы сможем принимать их где угодно: в гостиной, на террасе или в лесу. Каждый из нас, по отдельности или вместе с другими, сможет принимать эти изображения прямо у себя дома: сегодня вечером у нас будет Клеопатра, Дантон или мадам Дюбарри; и тени эти, поодиночке или толпами, будут населять наши дома и исчезнут, заслышав щелчок… Живые изображения, порожденные электрическим током или энергией солнца, как если бы мы брали их у самого Солнца… Иными словами, спиритический синтез.
4 июля 1896 года Максим Горький писал:
Вчера я был в царстве теней. Как странно там быть, если бы вы знали. Там звуков нет и нет красок. Там все, — земля, деревья, люди, вода и воздух, — окрашены в серый, однотонный цвет… Это не жизнь, а беззвучная тень жизни…5
5 Руис цитирует впечатления Горького от первого посещения кинематографа.
Это именно то, о чем мы сейчас говорим: зов, брошенный нашим предкам, которые приходят к нам, обернутые невидимой оболочкой; путешествие по потусторонним мирам, какими бы они ни были: человеческими, животными, растительными или неорганическими; путь домой, пролегающий по неизведанным тропам. Именно этим и занимается режиссер-шаман.

Мишель Бютор упоминает отрывок из «Двадцати тысяч лье под водой» Жюля Верна, в котором герои, оказавшись на глубине, к своему изумлению обнаруживают там точные копии наземных городов — Нью-Йорка, Парижа, Москвы, — вырезанные волнами на поверхности подводных скал. Города XX века, придуманные Природой там, на самом дне океана. Полярные исследователи вторят Жюлю Верну: они тоже видели тропические леса и неописуемых чудовищ, высеченных ветром на белоснежных вершинах — словно для того, чтобы перед ними благоговели. Не забудем и об облаках, рисующих беспощадные карикатуры на наших политиков, и о кролике на луне. Тысячи дорог, тысячи кратчайших путей и тайных переходов из одного мира в другой, которые нам еще предстоит открыть. Отплытие крупным планом, путешествие вокруг света и возвращение к тому же крупному плану. Не сочтите, пожалуйста, мои замечания за попытку оправдать чистое, светлое, вегетарианское кино, или, что было бы еще хуже, кино «здоровое»: фильмы, в которых нет ничего, кроме пейзажей, химических реакций или животных, умирающих от скуки с наступлением сумерек. И не думайте, что я призываю отказаться от повествования. Если я говорю о необходимости остерегаться индустрии и ее чересчур совершенного метода навязывания зрителям невинности, то я делаю это потому, что прекрасно представляю опасность, которую такая невинность в себе таит. Ибо это невинность ягнят, а для них, как известно, все зачастую кончается банальной бойней, а смерть на бойне — слишком глупый способ прикоснуться к потустороннему.
Главное здесь не сами путешествия, а красота прыжка из одного мира в другой.
Говоря о фильмах, которые стремятся выйти за пределы ограниченного и слишком человеческого, я не могу не упомянуть о своих работах. Во всех своих проектах я пытаюсь осуществить переход из одного мира в другой, пользуясь техникой, которую в Венеции эпохи барокко называли Il Ponte, — способ создания анаморфных элементов, обыгрывающих четыре уровня средневековой риторики: буквальный, аллегорический, моральный и анагогический. (Конечно же, существуют и другие риторические системы — от семи стадий познания Авраама Абулафия до обыкновенных кроссвордов.) Мой метод отличается от средневекового тем, что вместо одновременного считывания каждого из четырех уровней я ставлю перед собой цель постоянно перескакивать с одного уровня на другой. В каждом прыжке содержится элемент неожиданности, который приносит не только внезапное озарение, но еще и удовольствие. Представьте себе горнолыжника, который после каждого виража движется не только в новом направлении, но и по совершенно другому склону. Двигаясь таким образом, ему удается совершить четыре путешествия в одно и то же время, но главное здесь не сами путешествия, а красота прыжка из одного мира в другой.

В одном из своих барочных сонетов испанский поэт Габриэль Боканхель описывает двух лошадей, участвующих в скачках. Их наездники делают вид, что обгоняют друг друга, но постепенно начинают подражать движениям соперника, причем так искусно, что, ко всеобщему изумлению, становятся настоящими двойниками. Рамон Менендес Пидаль в одном из своих известных эссе рассказывает историю вероломной графини — донны Аргентины. Безумно влюбленная в Альманзора, главу мусульманского войска, она обезоружила своего мужа и открыла врагу ворота замка. Затем она пыталась отравить своего сына, но тот, предупрежденный ангелом об ее коварстве, отказался от напитка и заставил собственную мать выпить кубок с ядом. Дон Рамон различает исторические и вымышленные элементы в этой истории. Сначала он говорит, что легенда, скорее всего, родилась в Италии или Сирии, но в конце эссе не исключает, что история могла произойти несколько раз: в Италии, Сирии и Испании. Иными словами, это так называемая бессмертная история, бродячий сюжет. В поисках жертв, в которых они могут воплотиться, подобные сюжеты кочуют из столетия в столетие. Ни одно из этих воплощений не является совершенным, и это несовершенство смертных инкарнаций только подчеркивает совершенство оригинала. Все тот же Менендес Пидаль провел доскональное исследование истории доньи Галы, которую многие средневековые поэты воспевали как любовницу Карла Великого. Пидаль обнаружил, что этой дамы не существовало и что ее образ был всего лишь аллегорическим изображением Виа Галлики — сети дорог, проложенных по приказу Карла Великого на Пиренейском полуострове. В сказке эпохи династии Тан садовник во сне попадает в далекий сад. Его тут же приводят к Императору, которому минувшей ночью приснилось, что этот садовник спасет Империю от надвигающегося наводнения. Император выдает за садовника свою дочь, у них рождаются дети, позже — внуки. Но как всякий порядочный китаец, садовник желает перед смертью вернуться в родную деревню, чтобы умереть там и не превратиться в привидение. Он прощается со своей семьей, со своим сыном, который стал Императором. Оба они горько плачут. Вернувшись домой, садовник чувствует себя уставшим, ложится и засыпает. Проснувшись, он обнаруживает, что время не сдвинулось с места. Садовник вспоминает, что он собирался полить сад до захода солнца. Поливая растения, он узнает среди тысячи муравьев, тонущих у его ног, своих детей, внуков и жену.

В эпической поэме Bróellir — вольной интерпретации сказания о Старкатере из седьмой книги «Деяний данов» Саксона Грамматика — средневековый поэт Пау Сима6 описывает грандиозную битву, в которой слепой царь вызывает на бой владык всех земель викингов. От Флориды до России, от самого слабого до самого могущественного короля, все вожди викингов собираются в Последний Бой. Поле битвы размером не больше стадиона. Воины вступают в сражение согласно порядку их прибытия. Первая армия начинает бой незадолго до рассвета. Все погибают, и вот поле битвы усеяно мертвыми телами, по которым уже ступают новые воины. Вскоре и они оказываются разгромлены свежеприбывшей армией. К полудню несчетные слои нагроможденных трупов образуют гору. Хищные птицы кружат над нею, привлеченные запахом крови. Крысы застилают равнину, на которой возвышается гора трупов, живым черным ковром, простирающимся до самого горизонта. Незадолго до сумерек от горы мертвых, на вершине которой все еще сражаются последние войска, отделяется кроваво-красное облако. Оно поднимается над вершиной и закрывает собой черную тучу слетевшихся на падаль птиц, — эта туча застилала синее небо еще с полудня. Под прикрытием красного облака птицы, не дожидаясь конца битвы, ныряют в гору трупов, разрывают их на части и разлетаются, унося в клювах конечности, головы и внутренности. Внутри каждого из человечьих кусков копошатся и сражаются друг с другом крысы, но птицы сбрасывают их вниз и они разбиваются о землю. Крысы, конечности, головы, внутренности дождем обрушиваются на гору, и все вокруг темнеет перед заходом солнца. В этих «атлетических» видениях апокалипсиса королевства викингов из переплетения событий с участием человека и животного рождается пейзаж (гора под дождем). Таким образом, мы становимся свидетелями перехода из драматического мира битвы в лирический мир горы. Кровавые события уступают место торжественному появлению пейзажа. Но игра, которую затевает шаманская кинокамера с миром потусторонним, может дать нам нечто большее, чем просто пейзаж.
В их недостатках, возможно, и заключалась их поэзия.
Одним из самых плодотворных продуктов человеческого воображения является фигура Бога, которую мы охотно уступаем космосу, даже если при этом единении со вселенной, становясь частью небесных сфер, она теряет человеческое обличье. Но сколько гораздо более простых примеров можно обнаружить в природе! Мы видим лица в облаках, звездах, камнях, иногда даже в химических реакциях или в подтеках на стене. Куда бы мы ни взглянули, перед нашими глазами всегда слагается или разлагается человеческий лик (Блейк говорил, что все пейзажи — это всего лишь человек, увиденный издалека). Каббалист Ицхак Лурье называл эту фигуру Адамом Протопластом. Вселенский разум приобретает человеческую форму, но при этом вмещает в себя все особи, их души, личности и внутренние миры одновременно. Этот алхимический процесс имеет двойственную природу: человеческие формы порабощаются природой, в то время как люди становятся частью животных, растительных и неорганических материй. В своем дневнике Кольридж писал, что однажды в беседе с Уильямом Вордсвортом ими был изобретен почти детский поэтический прием: написание стихов, в которых люди уподобляются в своем поведении растениям, а растения — людям.
6 Именем Пау Сима подписана статья «Эллипс» в специальном выпуске французского журнала
Art Press (N 112, март 1987 г.), посвященном творчеству Руиса. В примечании к статье сообщается: «Пау Сима — коллективный псевдоним «бельвильского кружка» (состоящего из Рауля Руиса и Эмилио дель Солара)».

Несколько недель тому назад я гулял по своему кварталу в Париже, когда внезапно начался сильный ливень, и мне пришлось укрыться в видеосалоне. Ожидая окончания дождя, я бесцельно бродил среди стеллажей с видеокассетами. Между двумя порнофильмами и какой-то итальянской комедией я обнаружил «Черную кошку», фильм ужасов Эдгара Ульмера. Я купил эту кассету и незамедлительно посмотрел ее тем же вечером. Дождь в фильме был точно таким, как дождь над Парижем. Громкая беспорядочная музыка, дрейфующая между Брамсом и Листом, заглушала звуки полицейских сирен за окном и крики жертв на экране. В кадре был поезд, оживленный игрой света и тени и заполненный эфемерными фигурами, внушаемыми зрителю — можно сказать, придуманными, — клубящимся дымом из трубы паровоза. Вдруг на экране появился Бела Лугоши. За день до этого я обедал с Мартином Ландау, который играет Белу Лугоши в новом фильме Тима Бертона7. Мы обсуждали возможность создания анахроничного фильма, в котором Лугоши занимает должность министра культуры Венгрии. (История вполне достоверна: ему действительно предлагал эту должность Янош Кадар.) В нашем фильме Лугоши возвращается к себе на родину, в Венгрию, и становится современным графом Дракулой, чьи жертвы — культурные диссиденты. Мартин Ландау и я нередко обсуждали поэтические свойства фильмов Эда Вуда, Реджинальда Ле Борга, Форда Биба и других режиссеров — фильмов, которые были сняты всего за несколько дней. В их недостатках, возможно, и заключалась их поэзия.
7 Речь идет о фильме «Эд Вуд» (1994).
Позволить миру дышать — гораздо важнее, чем то, как мы дышим в лицо мира.
Во время того же обеда я, как обычно, перескакивал с теории на теорию, обсуждая различные книги, которые являются моими постоянными спутниками. В частности, я упомянул статью логика Яакко Хинтикки, в которой обсуждалась общая теория языка или, скорее, общие семантические парадигмы. Хинтикка противопоставлял «рекурсивную» парадигму (согласно которой язык — это процесс, подчиняющийся существующим правилам, и его последовательное развитие обеспечивается постоянным возвращением к этим правилам) и «стратегическую» парадигму (в которой язык считается завершенным ансамблем, подобным футбольной команде, где слова и понятия играют в игры, правила которых оговариваются заново перед началом каждого матча). Внезапно я понял, что эта классификация может быть применена и к кинематографу. Есть фильмы, которые подчиняются жестким правилам, но развиваются беспорядочно, время от времени обращаясь к исходным положениям, чтобы убедиться, что они не были нарушены (неореализм). Другие фильмы сразу признаются, что они — не более чем игры с заранее известным исходом, и их вариации согласуются с правилами, которые считаются приемлемыми с точки зрения определенной стратегии — например, стратегии победителя (Голливуд). Я также осознал, что если слегка исказить смысл, подходы этих двух парадигм можно совместить: в последовательности историй, подчиняющихся периодически перепроверяемым правилам, каждая из историй сама по себе может быть потенциальной игрой, а значит — подчиняться стратегической парадигме, осуществление которой происходит вне фильма, в художественном пространстве за пределами кадра. Среди коммерческих фильмов можно найти немалое число примеров, иллюстрирующих эту теорию. «Черная кошка» Ульмера — один из лучших примеров такого фильма, наиболее радикальный и проблематичный. Этот фильм состоит из серии ситуаций, каждая из которых живет как бы своей собственной жизнью. Например, Борис Карлофф играет в шахматы; Бела Лугоши убегает от кошек; битва времен Первой мировой войны, произошедшая несколько лет назад под окнами замка в стиле Баухаус, в котором живет Борис Карлофф. Все эти фрагменты представляют собой истории, независимые от сюжета. Ни одна из этих историй не попадает в художественное пространство фильма — все они происходят где-то в совершенно другом месте. И тем не менее наблюдается «эффект единства», связывающий две повествовательные парадигмы как мост.

Здесь, мне кажется, будет уместно объяснить кинематографические принципы, которые я предлагаю. Мой стиль не слишком прямолинеен, и, чтобы оставаться верным себе, для этого объяснения я выбрал китайский трактат начала ХVIII века. Он дает серию наставлений, основанную на шести приемах, которые составляют поэтику, весьма полезную, на мой взгляд, для каждого шамана. Трактат называется «Беседы о живописи монаха Горькая Тыква» и был написан художником Ши-Тао. Мои комментарии основываются на переводе Пьера Рикмана и на статье Франсуа Чен «Пустое и полное: язык китайской живописи». Труд Ши-Тао состоит из семнадцати коротких глав, посвященных принципам традиционной китайской живописи. В них он не просто пересказывает технику восьми штрихов, трех перспектив или диалектику пустоты и полноты; его пересказ вдыхает новую жизнь и новую гармонию в принципы, которые давно считались устаревшими. Автор достигает этого, подчеркивая значимость искусства (или способа) созерцания. Как и многие другие китайские живописцы, Ши-Тао считал, что картина должна рисоваться одним единственным росчерком кисти, на одном дыхании, но след, оставляемый на бумаге, должен при этом подчиняться логике этого мира. Позволить миру дышать — гораздо важнее, чем то, как мы дышим в лицо мира.

В одиннадцатой главе, названной «Шесть способов», Ши-Тао излагает шесть приемов обращения с видимым миром8. Первый способ: привлечь внимание к сцене, возникающей на фоне неподвижного заднего плана. Ши-Тао приводит следующий пример: на фоне заснеженных зимних гор выделяется весенний пейзаж. Две поры года противопоставлены друг другу, два времени года происходят одновременно. Развивая эту мысль, мы можем представить себе двух дерущихся мужчин на урбанистическом фоне Нью-Йорка. В кино мы обычно строим декорации до того, как размещаем на их фоне актеров, согласно правилам, диктуемым сюжетом. Мы можем приблизиться к актерам в кадре или удалиться от них, не требуя при этом никакого движения от заднего плана. Большинство фильмов работает по такому принципу.
8 В переводе Е. Завадской (Завадская Е. «Беседы о живописи» Ши-Тао, М.: Наука, 1978) эти способы описываются следующим образом: 1) внимание сконцентрировано на центральной части картины, а не на заднем плане; 2) внимание сосредоточено на заднем плане, а не на центральной части картины; 3) добавки выразительных элементов; 4) разрывы; 5) инверсия; 6) перепады.
Мы видим труп человека, убитого во время чтения поэмы Ли По, но игнорируем бездыханное тело и сосредоточиваем внимание на стихотворении, зажатом в его руке.
Понять второй способ несколько сложнее. Он сформулирован так: сделай задний план подвижным и привлеки к нему внимание, оставляя передний план статичным (даже если он тоже не лишен динамики). Пример Ши-Тао: монах невозмутимо созерцает цветок, в то время как на гору вдалеке обрушивается ливень. В фильме этого эффекта можно достичь, используя технику монтажа таким образом, чтобы задний план казался не менее, а то и более значимым, чем передний. Возвращаясь к упомянутому примеру с Нью-Йорком, можно проявить меньшую щедрость по отношению к нашим драчунам и интегрировать их в эпизод, где главным актером выступит задний план. Итак, в Нью-Йорке завязывается потасовка, но вскоре она становится повторяющейся и однообразной, и мы начинаем замечать котов, прогуливающихся по крыше дома в глубине кадра. Тут наше внимание привлекает одно из окон в доме, где мы видим девушку, не подозревающую о происходящей на улице драке и играющую на фортепиано пьесу Шуберта. Драка за окном между тем становится все более монотонной. Настоящая энергия этой сцены заключается в движении женской руки по клавиатуре.

Третий способ заключается в добавлении случайного динамизма к неподвижности. Ши-Тао называет его «элементами, полными жизни там, где царит смерть». Представим себе все ту же нью-йоркскую съемочную площадку. Постепенно рука пианистки и потасовка сливаются воедино. Погода становится переменной; облака проносятся мимо солнца, и освещение меняется каждые десять секунд. Проблески солнечных лучей изредка прорезают воздух на заднем плане. Небо заполоняют птицы. Ветер носит мертвые листья. Мы видим труп человека, убитого во время чтения поэмы Ли По, но игнорируем бездыханное тело и сосредоточиваем внимание на стихотворении, зажатом в его руке.
Многообразие происходящего становится органическим целым, которому теперь принадлежат наше зрение и наше тело.
Четвертый способ представляет собой введение незаконченных или прерванных фигур: пагода, проступающая сквозь облака; дерево, виднеющееся в тумане. Вернемся в Нью-Йорк. В лучах постоянно меняющегося света летают птицы, скрываясь за небоскребами и снова возникая в самых неожиданных местах. В кадре то и дело появляются персонажи из предыдущих историй, но мы узнаем их только после того, как они снова исчезают. Вдалеке происходит нечто, смутно напоминающее крушение самолета. Но эпизод на этом прерывается, и мы так и не узнаем, произошла ли авиакатастрофа в действительности.
Пятый способ: инверсия функций. То, что должно быть динамичным, становится статичным, и наоборот. Снова Нью-Йорк. Пара дерущихся, пианистка и все прочие персонажи вдруг прерывают свои занятия и, задирая головы, созерцают радугу.
Шестой способ известен как «головокружение». Мы проникаем внутрь картины. Многообразие происходящего становится органическим целым, которому теперь принадлежат наше зрение и наше тело.

С самого рождения кинематографа историю завораживания публики (будь то страстные любители «культового кино» или же те, кто с большей легкостью готовы принять на веру логику фильма, чем логику реального мира) можно описать категорией «иллюзионизма». Одним из первых радикальных критических замечаний по отношению к кино (и театру) был упрек в том, что избыток иллюзии является моральным недостатком, поскольку вызывает отвержение реального мира и его насущных проблем. Подобным обвинениям не хватает великодушия. Они не видят различия между гипнотическим вхождением зрителя в созданную фильмом вселенную и другим типом иллюзии, когда зритель засыпает и просыпается несколько раз в течение одного и того же фильма. Невзирая на мнение философов, которые считали сон и память несовместимыми (Шопенгауэр объясняет в своем очерке о духовидении9, что для того чтобы видеть сны о мертвых, память должна быть парализована), нас не должно особенно удивлять, что человек, с которым мы разговариваем в таком сне, умер уже много лет назад. В равной степени наш покойный собеседник не должен удивляться тому, что мы живы, хотя другой дух уже оповестил его о нашей смерти, которая наступит десять лет спустя. Чтобы создать мир, способный производить подобные образы-ситуации, изменения правил, по которым снимаются фильмы, явно недостаточно. Необходимо также изменить внутреннюю логику показываемых событий и переиначить саму манеру взаимодействия между визуальным и повествовательным пространством.
9 А. Шопенгауэр, «Опыт о духовидении и о том, что с ним связано» (1851).
Каждое происшествие длится лишь мгновение, характерное только для него, — единичного, единого времени не существует.
Я не стану сейчас углубляться в эту тему, но могу представить на ваше рассмотрение несколько элементарных принципов. Что касается фабулы, я хотел бы предложить для нее открытую структуру, основанную на ars combinatoriа: система множественных историй, накладывающихся друг на друга согласно некоторым установленным правилам. Такой процесс способен порождать все новые и новые истории. Например, пускай у нас будет десять тем или мотивов (подобно мотивам персидских ковров), десять сюжетных линий, каждая из которых является одновременно драмой и своего рода вектором. Эти темы могут рассматриваться в качестве «мостов» или же в качестве схем. Они могут быть простыми историями, сказками или случаями из повседневной жизни, пронумерованными от нуля до девяти. Сначала истории рассказываются по порядку, затем — комбинируются по парам. Так, номер 10 — это комбинация номера 1 и номера 0, номер 83 — комбинация номера 8 и номера 3 и т. д. И этот способ можно использовать не только в написании литературных произведений, но и при съемке фильмов. Такие комбинации имеют еще больший эффект, когда возникают непосредственно во время съемок. В идеале в такой системе не должно существовать разницы между написанием сценария и съемками фильма. Я не стану описывать все возможности этого метода, но хочу подчеркнуть его отличие от холодных (или насыщенных) комбинаций Жоржа Перека. Простое сопоставление двух обсессивных элементов неизменно порождает совершенно новую ситуацию. Поскольку эта тема имеет отношение к гиперпространству и его месту в комбинаторной системе, я позволю себе небольшое отступление. В детстве, когда я жил в Чилое, краю чудовищ и мистических существ, я услышал историю об одном монстре. Монстром он был потому, что его невозможно было описать — не потому, что его форма постоянно менялась, а именно потому, что у него не было никакой формы. Монстр без свойств. Вернее, у него было одно-единственное свойство, но очень значительное — его размер. Кстати говоря, имя его — Бута — как раз и означало «большой». Он был таким большим, что был невидим. Он был большим — и это все, что он из себя представлял. Факт существования этого чудовища поднимает один старый, как сама философия, вопрос: может ли пространство быть объектом? Иными словами, можно ли вообразить себе множественное пространство, каждая часть которого была бы одновременно трансцендентальной категорией, объектом для игры и перепутьем, где встречаются первое и второе? Иоанн Скот Эриугена предложил следующий ответ на эту головоломку: «Если бы пространство было объектом, то существовало бы столько же различных пространств, сколько есть объектов». И отношений между объектами, добавил бы я, поскольку именно эти отношения и интересуют нас в виртуальном пространстве.

Но не лишено ли смысла утверждение о том, что некий предмет окружен пространством, принадлежащим только ему? Древние мусульманские богословы представляли себе атомистическую систему, в которой каждый атом обернут в некое подобие атмосферы, души, — в духовную оболочку. Группе атомов, составляющих более сложное тело, требуется уже иной тип атмосферы, и каждый раз, когда группы этих тел составляют еще большее тело, они окружают себя пространством нового типа. Эта пространственная структура зависела не только от размеров групп, но также от специфических условий, определяющих появление и исчезновение новых тел. Мы, люди, не представляем из себя ничего, кроме искусственной системы концентрических материальных оболочек (гилаф10) , единственным объединяющим фактором для которых является Бог, вставляющий каждую предыдущую оболочку в последующую (см. труды Луи Массиньона о мистицизме аль-Халладжа и «Философию Калама» Гарри Острина Вольфсона).
10 Термин мусульманского мистицизма, буквально означающий «ножны».
Если нас интересует какая-то из этих групп в особенности, необходимо представить себе тот определенный тип пространства, который ее окружает или изобрести способ показать это пространство. Таким образом, нам остается установить правила перехода из одного пространства в другое. То же касается и времени: каждое происшествие длится лишь мгновение, характерное только для него, — единичного, единого времени не существует. Из этого следует, что каждый предмет и каждая группа предметов обладает уникальными пространством и временем.
Попробуем теперь представить себе кино, которое могло бы отобразить подобный мир. Мы можем вообразить определенный тип съемки, позволяющий рассматривать каждый участок окружающего мира и каждый содержащийся в нем предмет в сугубо индивидуальном порядке. В то же самое время такой подход позволил бы нам достичь самых крайних пределов творчества, просто сопоставив несколько трепещущих изображений. В этом радикальном импрессионизме никогда-прежде-не-виденное вдруг оказалось бы в пределах нашей досягаемости. Кино стало бы совершенным инструментом для открытия многочисленных возможных миров, незримо существующих бок о бок с нашим миром.
В своей книге «Разум: очерки о человеческом чувстве» Сьюзен Кэтрин Лангер замечает, что, хотя существуют области науки, изучающие психологию людей и психологию животных, не существует научной дисциплины, посвященной психологии растений. Я же, в свою очередь, интересуюсь причиной отсутствия науки, изучающей психологию неорганического мира (ведь недаром Уайтхед видел в камнях пример совершенного общества, или, по крайней мере, совершенного консервативного общества).

В сущности, я говорю о кино, способном изобретать новую грамматику всякий раз, когда оно переходит из одного мира в другой, способном порождать уникальные эмоции по отношению к любому предмету, животному или растению всего лишь за счет изменения параметров пространства и времени. Но это подразумевает постоянную практику одновременно внимания и отстранения, способности приступить к активному процессу киносъемки и уже в следующее мгновение вернуться к пассивному созерцанию. Одним словом, я говорю о кино, способном передать прежде всего многообразие опыта в чувственном мире. Легко сказать…
Перевод с английского и французского Дмитрия Мартова и Ларисы Смирновой
Книга «Поэтика кино» готовится к печати в издательстве Kolonna Publications
Читайте также
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
Online Casino Mit Visa Einzahlen
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
Перемещенные города, перевернутые смыслы
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана