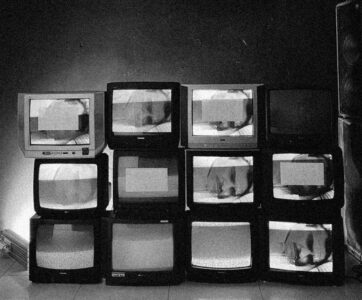Своя чужая смерть

Решил однажды грозный царь Рашпиль послать четырех сыновей-богатырей Малыша, Соплю, Гирю, да Шустрого (хоть и был тот малой, несмышленый пацан) за тридевять земель, в далекое чешское королевство за томящейся на чужбине царевной Анжелой — волосы перекисью высветлены, коленки в незаживающих ссадинах. Долго ехали богатыри, много кого на пути своем повстречали, выстояли сечу великую против цыганского воинства, но царевну отвоевали. Да только не царевной та оказалась, а змеей подколодной, нерпой, которую в клетке держать надо. Нашептала младшему несмышленышу про жизнь счастливую, а он взял и ради нее, коварной, парней своих да батю Рашпиля порешил.
Историю о Чужой — так прозвали царевну люди поумней случайного кавалера — можно было бы рассказать на любой лад: высокая трагедия о страсти и предательстве, страшная байка для тех, кто в курсе, скверный анекдот безо всякой морали — как ни выворачивай, казалось бы, всё подойдет. Но перед нами не романтическая баллада, не сказочка, рассказанная соседом по купе, а что-то вроде семейного фото: все знакомы, фотограф салютует птичке, люди в кадре отулыбались и устало глядят в камеру, многие умерли. В воздухе висит вспышка.

Тем, кто не читал перед просмотром фильма литературный сценарий «Адольфыча» Нестеренко, нелегко будет понять, в чем же чужеродность Чужой. Одной из главных линий книги была своеобразная дарвинистская теория, по которой получалось, что Чужая — это иная форма жизни, ощущающая свое биологическое превосходство над окружающими. Несмотря на феерический финальный диалог двух зеков об этимологии прозвища (привет Ридли Скотту) и вопреки концепции писателя, киношная Чужая прилетела не из далекого космоса. Дебютантка Наталья Романычева играет не дракона. Она, конечно, сильная, решительная, умная, она умеет выживать, но яйца зла в людей не откладывает. В этом нет нужды. Зло и так везде, куда ни глянь: лязгает заедающим от непомерной работы «люгером», дымится камешком крэка в бульбуляторе, пачкает кровью от шипящего выстрела в ближнего, в соседа по фото. Кто кому тут чужой? Здесь, как на гражданской войне, все свои до определенного момента. А после — пулю получи, не обижайся. Чужая — это сестра, которая печется о своем подследственном брате Бабае, это любовница, которая шлет передачи подельнику. Это родина-блядь, которая позовёт-поманит-проглотит-выплюнет, а все равно родина. Куда денешься.

Излишне прозорливому может показаться, что «Чужая» опоздала к отпеванию девяностых — время идет, и нужно бы уже складывать отходняк по «нулевым». Но сказать так можно разве что с натяжкой. До сих пор разговор о времени «начального накопления капитала» шел лишь вкрадчивым шепотом, в гомеопатически приемлемых для зрителя формах. «Бригада» была сверх меры мелодраматичной, «Антикиллер» карикатурно постмодернистским, на «Бумере» ехали чересчур нормальные пацаны, а «Жмурки» диагностировали десятилетие намеренно по-цирковому, что многих смутило. Я намеренно не упоминаю фильмы по сценариям Константина Мурзенко («Жесткое время» и «Мама не горюй») или балабановского «Брата», которые снимались в самом конце последнего десятилетия двадцатого века, изнутри эпохи. Хотя именно этот момент «Чужая» называет точкой отсчета нового времени, «времени барыг». В эпилоге фильма значится дата «1998 год» — самые отчаянные братки либо сели, либо постреляны, выжившие ушли в политику и бизнес. Симптоматично, кстати, что в выводах «Чужая» пересекается с фильмом стилистически ей противоположным — «Жмурками». Но если мечтательница Чужая и Шустрый дежурно грезят о «чудесной стране» Франции, чтобы погибнуть, то более прозорливые и успешные герои Балабанова понимают — страна мечты рядом. Вот она, рукой подать, только выгляни в окно, и Кремль обнадеживающе сверкнет тебе своими звездочками.

По очевидным причинам «Чужая» претендует на роль своеобразного компендиума того, что было проговорено по поводу мутной движухи 90-х — это кино задумано как губка, собирающая воедино расползшиеся по культурному пространству мысли. Даже если забыть о том, что литературная основа фильма возникла во многом как реакция на «Бумер», понятно: в кино творение Эрнста и Толстунова должны смотреть те, кто сегодня ходит в кинотеатры. Двадцатилетние, для которых 90-е — территория бессознательного, раннее детство, запечатанное и забытое. «Чужая» — это, по сути, напоминалка тиражом в шестьсот экранов, эффектный, агрессивный, строгий в мелочах, а иногда фотографически точный документ о «лихих девяностых» (фильм, действительно, очень хорошо ложится в рамки этого слетевшего с трибуны словосочетания). Судя по притихшим блогам и незаполненным кинозалам, свойская документальная интонация — музыка в автомобильной магнитоле, заботливо поставленная на стол барсетка, протертые коленки проститутки, пистолет ТТ, затыкающий разоравшегося в телевизоре Жириновского — кошмарит зрителя посильнее огнестрельных ранений и бейсбольных бит. Молодым, успокоенным стабильностью тошно вспоминать. Не на приеме у психоаналитика ведь.

Пожалуй, никто до сих пор не говорил о девяностых с такой живодерской откровенностью. Безо всякой поэзии, иронии, ностальгических вздохов; въезжая в кадр вот так запросто, позабыв даже про титры. Авторы фильма явно не фильтруют базар — возможностей для остранения предусмотрено по минимуму. По сути две. Во-первых, в полном согласии с книгой в начале и финале «Чужой» дан титр «Украина» — вроде бы у соседей дело происходит, но что-то не слышно в зале вздохов облегчения. Всем понятно: Россия и Украина в 1993-м не такие уж разные страны. Во-вторых, при просмотре настойчиво вспоминается дешевое криминальное кино рубежа 80–90-х. Очень хорошо на эту традицию накладываются расторможенная псевдодокументальная съемка в духе «Превосходства Борна» и кровяная серьезность «Пророка». Световые блики в объектив, сумбурные молниеносные драки, пыточный садизм сверхкрупных планов, нарочитый звук — двадцать лет назад тот же самый эффект «наивного», прямого контакта с повседневностью достигался просто по техническим причинам, независимо от авторского желания. Сегодня — это ультрасовременный модный изобразительный ход. Однако тонкая стилистическая игра не только не спасает от страха узнавания, но и провоцирует его. Видимо, рано пока прощаться с ребятами в мозолистых куртках. Они рядом. Еще мерещатся. Вокруг «Чужой» неслучайно сгустилось молчание — обсуждается в основном смачный антипиратский ролик, выложенный в сети, да точность воспроизведения напечатанного пять лет назад сценария. Эрнст с Толстуновым с размаху наступили зрителю на и без того больную ногу, а затем бодро промаршировали туда, куда лучше не лезть. Это не «школьный» двор, где еще возможна относительно безболезненная общественная дискуссия. О чем тут говорить? Было-небыло? Правда-неправда? Время, в котором разыгрывается история, торжественно приписано к прошлому, которое, если и принято разглядывать, то сквозь розовые очки общепринятых клише. Кто старое помянет, тому глаз вон, да? «Чужой» же не лежится в могильной тишине — в финале бьющая навылет сцена: заключенные по очереди называют статью и срок выхода на свободу, произнесенные вслух числа поражают нешуточной актуальностью, оказывается, двадцать лет не так уж много — так с каталки в прозекторской тянет мертвая Чужая свои прохладные щупальца в настоящее и будущее.
Читайте также
-
«От Калигари до Гитлера» — Мрачные предчувствия
-
Назад в будущее — Разговор с командой видеосалона
-
Достигнув моря, нелегко вернуться
-
Два дня хорошей жизни
-
«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова
-
«Большие личности дают тебе большую свободу» — Разговор с Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной