Судебная драма. История вопроса
5 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen покажут «Тропы славы» Стэнли Кубрика с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Об этом и других фильмах о поисках справедливости читайте в архивном материале Лилии Шитенбург.
СЕАНС — 25/26
«До встречи в суде». Эта фраза в отечественной культуре долгое время воспринималась как знак иной цивилизации, как свидетельство о любопытном, но довольно причудливом обычае, бытующем где-то на Альфе Кассиопеи. Возможно, отчасти произошло это оттого, что разнообразными судебными драмами Россия перенасытилась еще в дореволюционное время: громкие политические и уголовные процессы с участием крупнейших адвокатов соперничали по популярности и зрелищности с театральными спектаклями, в светских салонах устраивали суды над литературными героями и художественными явлениями и так далее.

В зарубежном кино судебный процесс оказывался способом выяснения истины.
А потом, когда в России было совершено главное преступление прошлого века, согласно вывернутой логике узаконенного беззакония, мы, здешние, сразу же оказались невиновны (ибо «в своих дерзаниях всегда мы правы»), а стало быть, и неподсудны. Признаны виновными во всем были «другие» — еще до суда объявленные «врагами народа». Буржуйское понятие о презумпции невиновности было заменено классовым чутьем. Глагол «судить» уже не рифмовался с глаголом «рядить» (то бишь, раздумывать, приводить в порядок, поступать по закону), но лишь с глаголом «карать». А для представителей «народа» и Божий суд, и суд человеческий, и суд чести заменило «суровое порицание трудового коллектива». Какие уж тут «прения сторон»… Недаром юридический факультет был назван «факультетом ненужных вещей». Обходились без драм. Даже в советском детективе сцены в зале суда практически отсутствовали: если уж «наши органы» кого поймали, то вердикт выносится автоматически. Любимый «припев» советского кино-делопроизводства: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Поэтому неизбежный суд истории (а его заседания проходят регулярно во всех странах мира никак не реже, чем раз в пятьдесят лет), обосновавший «законное сомнение» в окончательности приговора, стал для страны трагедией — и катарсиса не видно.
Нечасто попадавшие в поле зрения советского зрителя западные судебные драмы легко вписывались в общую идеологическую концепцию: прогрессивные зарубежные товарищи как бы без устали критиковали свою суровую зарубежную действительность. Здешняя публика попутно отмечала лакомые особенности чуждой реальности, вроде искрометных речей и дорогих галстуков адвокатов, ледяных шуток судей в париках и мантиях, торжественной важности «простых людей» в роли присяжных, забавной традиции класть руку на Библию…В стране, где говорилось все, кроме правды, клятва говорить только ее и ничего, кроме нее, не воспринималась всерьез, не задевала как личный вызов — только слегка озадачивала как чуждая прихоть. Прошу внести мое замечание в протокол.
…А в это время за границей… Зарубежный кинематограф осваивал юридическую драму во всем ее многообразии, открывая все новые грани и поднимая новые темы. Авторское кино с полным правом настаивало на глубокой философской, экзистенциальной проблематике «киносудов», если и не ссылаясь впрямую, то подразумевая центральный архетип настоящей судебной драмы — Страшный суд. В зарубежном кино судебный процесс оказывался способом выяснения истины.

В «нестрашном», посюстороннем варианте суд на экране становился местом, где можно было вынести приговор значимому социальному явлению, в реальности еще не оказавшемуся предметом скрупулезного разбирательства. В странах, где жанр судебной драмы наиболее развит, существует прецедентное право, и не случайно дела, которые вел кинематограф, обретали силу прецедента если не в повседневной практике, то наверняка — в общественном сознании. Во многом предвосхищая развитие событий. Внятных показаний в кино умудрялись добиться даже от «космоса, хроноса, эроса, расы, вируса». Встретиться в суде могли история, мораль, религия, культура, разнообразные человеческие пороки и добродетели, и все эти «подсудимые» — в их предельно остром, наиболее конфликтном проявлении.
Закон, как известно, суров, — особенно если это закон зрительского восприятия.
Общеизвестно, что в свою судебную систему как никто верят американцы. Голливуд и крупные телекорпорации делают все, чтобы удовлетворить спрос и не пропустить ни единой возможности, предлагаемой популярным жанром судебной драмы. Все доступные соки выжаты из громких реальных дел, безостановочно эксплуатируются все новые их вариации, по чистой случайности не осуществившиеся в жизни. «Все события фильма вымышлены, любое совпадение с реальными лицами и фактами является случайным» — распространенные, а в некоторых случаях и обязательные титры, ограждающие в свою очередь уже самих кинематографистов от судебных разбирательств. Не только сами судебные дела, но и микроскопические нюансы судопроизводства, и каждая сторона, каждый участник процесса давно стали объектом пристального изучения посредством экрана — есть отдельные фильмы о судьях, адвокатах (великое множество), прокурорах (значительно меньше), присяжных, судебных экспертах (особенно — психологах и психоаналитиках), свидетелях. Более того — жанр юридической драмы постепенно становится источником других, вполне самостоятельных «поджанров». Так появились «судебные комедии», «фильмы о разводах», «судебные фильмы об экологических преступлениях», поражающие своей многочисленностью сериалы об адвокатских конторах (перемалывающие, думается, всю существующую реальную судебную практику).
Закон, как известно, суров, — особенно если это закон зрительского восприятия. Отечественный зритель, взыскующий общественного порядка (или хотя бы некоторого упорядочения существующего социального хаоса), вероятнее всего, захочет посмотреть отечественную судебную драму. А это означает, что рано или поздно — встретимся в суде.

Мистерия под судом
«Голгофа», реж. Ж. Дювивье, 1935
«Страсти Жанны д’Арк», реж. К.Т. Дрейер, 1927
«Процесс Жанны д’ Арк», теж. Р. Брессон, 1962
Определимся с границами. Попробуем наметить верхнюю духовную планку, выше которой судебной драмы быть не может. Где кончаются все драмы и начинаются мистерии страстей. Характерно, что в авторских мирах (если не приходится говорить о культуре в целом), где актуальны понятия истины, греха, вины и искупления, мистерии не обойтись без судебного процесса как одного из своих этапов, а суд неизбежно ведет к мистерии. Предельно наивный фильм «Голгофа» парадоксальным образом утверждает: самый главный суд — тот, где все известно наперед. Робкая иллюстративная попытка реконструкции суда над Иисусом Христом содержит немало любопытных неканонических моментов (говоря о Боге, человек проговаривается. Не может не проговориться. Выбалтывает, как хорошо обработанный свидетель, самую суть — об этом, надо полагать, не догадывался добрый католик Мел Гибсон, снимая свои «Страсти Христовы» в духе самого храброго из всех «Храбрых сердец»). Судебный процесс в «Голгофе» затеяли торговцы, изгнанные из храма, — странный молчаливый проповедник с вьющимися власами и отрешенным взглядом препятствовал исполнению их честного контракта с властями. Члены синедриона, люди договора (Завета), судили Мессию по своему закону. Лучшие моменты в фильме связаны с неким священным трепетом, интонацией общей растерянности, охватившей тех, кому не быть христианами. Искренне недоумевающий Понтий Пилат (молодой Жан Габен), отличный солдат, на чьем невозмутимом лице — вся сила и непоколебимость пока еще великой Римской Империи. Столь же неотразим и точен единственный удачный диалог фраппированных членов синедриона: « — Давайте его спросим, нужно ли платить дань кесарю. — А для чего? Чтобы узнать, что он думает?» В этом катастрофически простодушном, непоправимо комичном тексте заключена вся абсурдность ситуации, подтверждающей: этот суд невозможен. Мы выходим за пределы. Дальнейшее — мистерия, и лысая гора Голгофа в финале фильма, с которой в воскресный день уносят два теперь уже навсегда лишних креста. Дабы оставить один.
Суд в абсолютном тупике — поскольку впрямую приблизился к Абсолюту.
Невозможность, невероятность земного суда, имманентная неподсудность героя — один из мотивов шедевра Дрейера «Страсти Жанны д’Арк». Воплощенный цинизм, все оттенки тщательно и тщетно скрываемых пороков, гротескная игра смертных грехов — в гипервыразительной серии портретов судей. Отвратительных, как по-раблезиански разъевшиеся горгульи. Но вовсе не отвлеченно-химерических, напротив — как раз предельно, буквально до последнего предела человечных (вот в чем ужас!) — по контрасту с единственным лицом женщины, ради которой все тут собрались. Сколько оттенков муки смогло воплотить лицо несчастной, сошедшей впоследствии с ума Фальконетти! В процессе суда Жанна становилась святой. А техническая «безъязыкость» немого фильма оборачивалась сакральной немотой: Жанна слышала голоса, но не могла их передать. Некому тут было. Вот разве хмурый темноглазый молодой монах на заднем плане — Антонен Арто — пожалуй, он один услышал Орлеанскую деву. Но — за кадром. И тоже, как Фальконетти, сошел с ума.
У Робера Брессона Жанну судили аскеты. Лучшие умы Парижского университета, просвещенные монахи, знатоки права, мастера риторики. Они — кто-то из них, глаз камеры — подглядывают за подсудимой в замочную скважину. Там на узкой кушетке, сняв тяжелые ботинки, лежит, свернувшись калачиком, худенькая девушка. Которую надо осудить и желательно сжечь. Собрав реальные тексты протоколов допроса Жанны д’Арк, Брессон совершает внешне лишенную сентиментальности и тем лишь более трогательную попытку пересмотра этого старого дела. У Жанны появился голос — довольно низкий и приятный, контрастирующий со светлым каре волос, голубиной кротостью облика и стройностью полевой лилии. Жанна пытается объясниться. В ее ответах — никакого вызова, лишь безупречная точность и изводящая судей неуязвимость. Суд в абсолютном тупике — поскольку впрямую приблизился к Абсолюту. Изначально почти бесплотное существо по приговору суда легко расстается с земной оболочкой, получает святой крест из двух палочек, мелко семеня босыми ступнями, восходит на костер, куда, дабы не оставлять улик, отправляются ее немудреная одежда и смешные ботинки. И замолкает навсегда с именем «Иисус!» Фильм Брессона не черно-белый, как фильм Дрейера, он — воплощенное «сияние серого цвета», и его знак — это крест в дыму. В финале: столб с цепями и два голубя. И ничего больше. Парафраз на тему первой литургической драмы: « — Кого ищете? — Жанну-деву. — Нет ее здесь».
Если есть драма у самой судебной драмы, то она заключается в ее принципиальной ограниченности. Как и всякий человеческий закон.

Суд как сон, мир как суд
«Процесс», реж. О. Уэллс, 1962
Еще до того, как часы остановились на 6 часах 14 минутах утра, когда сон Йозефа К. был прерван объявлением о его аресте, Орсон Уэллс позволил зрителям увидеть чей-то другой сон — маленькую рисованную притчу об одиноком человеке, всю жизнь пытавшемся проникнуть в некие таинственные ворота и ведущего глубокомысленные беседы с привратником. Выяснялось, что и ворота эти, и путь, пройденный человеком, предназначались лишь для него одного. И он его, так или иначе, — прошел. Безжалостный и крошечный, как микроинфаркт, сюжет служил эпиграфом к истории Йозефа К., решенной в новаторской (если это слово вообще применимо к гению Уэллса) стилистике «фазы быстрого сна».
Любой живущий здесь — уже осужден, а значит — виновен.
Холодный, лишенный цвета навязчивый кошмар не разменивался на безостановочную, как скороговорка тихого сумасшедшего, болтовню микроскопических кафкианских подробностей. «Кажется, ваш арест — это что-то научное». Мир «за закрытыми глазами» представлял собой безжизненный послевоенный городской пейзаж, с пустырями и коробками домов, без лишних слов объясняющий, что «общего у Корбюзье с Люфтваффе». Уэллс навсегда заклеймил (осудил!) модный тогда архитектурный минимализм как стиль не только тоскливый, но — подлинно бесчеловечный. Любой живущий здесь — уже осужден, а значит — виновен. Герой Энтони Перкинса совершал свой одинокий путь по дурной бесконечности бесчисленных лестниц, коридоров и помещений судебной канцелярии, преодолевал невесть откуда взявшиеся строительные леса, проходил сквозь безликую толпу других обвиняемых, гонялся за тенью судей. Лишний раз моргнув, мог тут же оказаться в крохотной каморке или в готическом соборе… Переживал немотивированные приступы страха, агрессии, внезапного эротического влечения и столь же неожиданного чувства вины. Процесс шел своим чередом. Пламенная речь К. в суде лишь усиливала угрожающую абсурдность ситуации. Выяснить толком ничего было нельзя: из новомодного (то есть уже допотопного) компьютера вышел скверный оракул, адвокат нагло бездействовал и принимал посетителей лежа (Орсон Уэллс в этой роли откровенно грезил, устроив «сон во сне», по-хозяйски расположившись в центре сновидения — то ли Кафки, то ли Йозефа К., то ли собственного). Йозеф К. — с ножом в сердце — остался лежать на пустыре, так и не выяснив, кем, когда, по какому поводу, а главное, за что он был осужден. Впрочем, возможно, мы знаем, когда это произошло. В 6 часов 14 минут утра, едва Йозеф К. решил, что проснулся. И проиграл процесс.

Суд над Человеком и мироустройством
«Расёмон», реж. А. Куросава, 1950
«Ничего не понимаю. Ужасный случай. Мне кажется, я навсегда потерял веру в человека». А случай-то был, вроде бы, пустяковый. В горах убили одного самурая. Бывает. Надо найти свидетелей, улики, с их помощью разыскать убийцу, наказать его — и мирно разойтись по домам, пить саке. Свидетели — крестьянин и монах — нашлись, есть и улики: самурайский меч и кинжал, в убийстве сознался известный разбойник, безутешная вдова самурая дает показания… Все ясно. А истина ускользает, словно и нет ее, истины.
Все — ложь.
Все помнят, что «Расёмон» — это пять совершенно различных версий одного и того же события. Но «Расёмон» — это еще и судебная драма, пять допросов в судебной палате (при этом лица чиновника, ведущего дело, мы не видим — это взгляд камеры, а реплик его не слышим — персонажи то и дело переспрашивают и сами отвечают на собственные вопросы). «Если бы не ветер, этот человек был бы жив и здоров» — мотивация преступления выдержана в духе короткого японского стихотворения. Кто бы мог подумать, что разбойник, буйный дикарь, недвусмысленно звериным образом скалящийся в ответ на каждую фразу (да и просто так, по причине необыкновенно бодрого настроения и общей витальности), окажется поэтом. Но ветер действительно налетел — и приподнял вуаль на шляпе жены самурая, на миг приоткрыв кукольное личико. А дальше — соблазнил ли разбойник женщину, взял ли ее силой, сражалась ли она до конца за свою честь, предала ли своего господина, сказала ли «я пойду к тому, кто останется в живых», отказался ли от нее муж, наградив напоследок нестерпимо презрительным взглядом, бился ли он с разбойником, убил ли его разбойник или самурай сам закололся кинжалом, отверг ли разбойник женщину, предавшую мужа… Не найти истины. Каждый человеческий поступок продиктован нечеловеческим эгоизмом, самыми низменными страстями, подлостью и страхом. Все — ложь. Оттого так и ужасен этот случай. Когда этот страшный день в горах покажется невыносимо долгим, европейский зритель непременно вздрогнет на типично японской фразе: «Но ведь убитый тоже дал показания». Он дал их устами старухи-прорицательницы. Она впустит в себя чужое страдание, обернется к зрителям — и скорчит отвратительную хитрую гримасу, показав лицо самой лжи.

Суд истории, суд над историей
«Нюрнбергский процесс», реж. С. Крамер, 1961
«Амистад», реж. С. Спилберг, 1997
«JFK», реж. О. Стоун, 1991
На скамье подсудимых — очень немолодые мужчины в приличных костюмах, привычка внимательно слушать чужие речи выдает в них людей интеллигентных. Вид у них усталый, сконфуженный, но держатся с достоинством. Виновными себя не признают. Один из них все время молчит. Дело происходит в послевоенном Нюрнберге, но это не военные преступники. Это судьи «темного времени». Те, кто олицетворял правосудие III Рейха и, стало быть, совершал преступления от имени закона. Когда обвинителю — бравому американскому генералу — не хватает юридических аргументов, он просто включает проектор. На экране — документальные кадры ужасов концентрационных лагерей. И никаких аргументов уже не надо. Молодой адвокат (Максимилиан Шелл) из «новых немцев», талантливо и в высшей степени умно (и то и другое усилено степенью отчаяния) защищает бывшего судью Эрнста Яннинга (Берт Ланкастер). Того, кто всегда молчит. Изумительной красоты и изощренности речи произносятся в этом суде, когда решается вопрос: должен ли сам судья следовать законам своей страны или бороться против них и таким образом стать предателем. Проблема в том, что это за страна, вернее, что за государство. «Вся Германия является подследственной!» — драматически возвышает голос адвокат, хладнокровно и мастерски выводя своего подзащитного из-под удара. А Германия побеждена, но вовсе не стремится к покаянию и жаждет одного: забыть обо всем и продолжать жить дальше. По улицам старого города, не в силах скрыть ни аристократической осанки, ни застывшей ледяной муки несравненно выгнутых бровей, бредет Марлен Дитрих, вдова боевого генерала и сама идеальный солдат (кажется, актриса играет этюд на тему «что было бы, если…» — если бы она сама вовремя не сбежала от нацистов). Она ходит на концерты классической музыки, превосходно варит кофе и прощает всех, всех… или почти всех. Ее соотечественники весьма преуспели в своем стремлении «забыть и жить дальше», они пьют свое пиво, гремят кружками и поют любимые песни. Если что-то и способно заткнуть удалой припев — то, пожалуй, только резкий стук судейского молотка.
На председательском месте — старый (ох, нет, он протестует) американец, самый обычный судья из самой обычной американской провинции (то есть тот, кто говорит здесь от имени всех «нормальных, простых людей»). Правда, играет его Спенсер Трейси. И внешняя «обыкновенность» на самом деле оказывается исключительным обаянием титанической личности. Его просят побыстрее осудить бывших нацистов, он же привык сначала во всем разбираться. Если кого-то интересует, как выглядят гуманисты — вот так, как Спенсер Трейси в этом фильме. Ему доверяют все. И союзники, и немцы. Ему доверяет эта женщина и идет варить кофе. Ему доверяют зрители. Ему доверяет человек, который молчит. Один честный судья не в силах осудить фашизм. Если ему не поможет второй честный судья.
Пафос личной, кровной, семейной сопричастности глобальным историческим событиям — это как раз то, чего требует тема.
Берт Ланкастер произносит покаянный трагический монолог шекспировского масштаба и совершенства. Весь кадр занимает по-настоящему прекрасное лицо седого человека с глазами, полными слез, и душой настрадавшейся и высокой. Только где-то в углу кадра — маленькая фигурка плюгавенького фашистского судьи, считающего себя невиновным. Эрнст Яннинг себя виновным признает и принимает приговор как избавление. Потому что «люди должны отвечать за свои действия. Люди, судящие других людей». Один гуманист осудил другого, и оба печально празднуют свою трагическую победу. Обвинение нацистской Германии закономерно (по всей строгости человеческого закона) превращается в обвинение всему миру в том, что он допустил нацизм. Так суд над историей оборачивается судом истории над человеческой безответственностью. Только прелестной вдове немецкого генерала уже все равно — и она потихоньку спивается у телефона, который еще позвонит да и перестанет…

Ничего равного этому фильму по мощи за истекшие почти полвека рядом не встанет. В 1997 году попробует высказаться Стивен Спилберг со своим «Амистадом». 1839 год, восстание чернокожих рабов на испанском корабле, и длинный процесс в Соединенных Штатах. Процесс сугубо политический, который должен либо решить дело в пользу испанской короны и возвратить ей ее имущество, либо признать, что эти люди — не рабы. И осудить рабство. Пожалуй, лучшее, что есть в этом фильме, — Энтони Хопкинс в роли Джона Куинси Адамса, экс-президента США (шестого по счету), сына покойного Джона Адамса, второго президента США. Этот сухонький, лысоватый дедушка с пламенеющими глазами давно удалился на покой, он протирает листики в своей оранжерее, но его участие в качестве адвоката решает исход затянувшегося дела. По-сократовски доступный в общении мудрый старичок терпеливо и доброжелательно выслушивает исповедь чернокожего узника, ничуть не гнушаясь мудрости предков племени охотников на львов. И в своей не блещущей внешними эффектами речи (итогом которой станет оправдательный приговор, во многом определивший всю дальнейшую историю страны) он тоже будет апеллировать к предкам — к отцам-основателям американских Соединенных Штатов, к своему отцу, желавшим видеть граждан равными и свободными. Спилберг сентиментален, как Спилберг, но и точен, как Спилберг. Пафос личной, кровной, семейной сопричастности глобальным историческим событиям — это как раз то, чего требует тема. Подобное мнение разделял и Джим Шеридан, поставивший в 1993 году свою драму о политических событиях в Ирландии и назвавший ее «Во имя отца».
Расставшийся с политической невинностью американский «Плезантвиль» не желает знать правды.
Впрочем, не возбраняется требовать судебного отчета от истории и собственным именем — особенно если у истории (или государства) перед тобой имеется должок. «Патриот всегда должен уметь защитить страну от правительства» — под этим девизом ветеран вьетнамской войны Оливер Стоун снимает фильм «JFK» об убийстве президента Кеннеди. Драму о политическом заговоре, с которого начались события, вынудившие его, Стоуна, оказаться во Вьетнаме. Это оказался заговор, в том числе и лично против него. «Стыдно сегодня быть американцем», — прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон (Кевин Костнер) начинает долгую борьбу со «сверкающей официальной ложью». Расставшийся с политической невинностью американский «Плезантвиль» не желает знать правды. Но Джим Гаррисон, человек, которому стыдно, готов не только к судебному разбирательству (в итоге оправдавшему причастных к делу цэрэушников), но и к трагической ответственности: «Мы все стали Гамлетами — детьми убитого отца, чьи убийцы владеют троном». А это чувство, пожалуй, не менее важно, чем твердое знание, кто и откуда стрелял в Джона Кеннеди. Потому что это, вероятно, и есть чувство истории. В суде над которой каждый человек успевает побывать и на месте судьи, и на месте подсудимого — даже оставаясь малозначительным свидетелем.

Военный суд
«Тропы славы», реж. С. Кубрик, 1957
«За короля и Отечество», реж. Дж. Лоузи, 1964
Осудить этих людей проще простого. Хотя бы за то, что они убивают других людей. Но обычно их судят за то, что они убивают плохо. Или — не тех. Излюбленный парадокс военных судебных драм: когда судят солдата, надо искать генерала. Нашли генерала — ищите тех, кто отдал приказ воевать.
Первая мировая война. Согласно идиотскому приказу командования (на сей раз французского), полк обречен погибнуть под шквальным огнем во время безнадежного штурма. Офицеры трижды поднимают солдат в атаку из окопа — и трижды в окоп падают трупы, так и не успев пройти «тропами славы». Наступление сорвано, отвечать будут те, кто чудом остался в живых. Каждый десятый. Однако командует ими фантастически бравый полковник (Керк Дуглас). Выдвинув вперед спартаковский подбородок, отец-командир пытается сделать все, чтобы спасти своих солдат. Но расстрелять все-таки кого-нибудь придется. В назидание остальным. Ну хотя бы троих. Их выбирают случайным образом — как могла бы развернуться здесь экзистенциальная драма! Но мы на войне, господа, сверните ваш экзистенциализм и разверните знамена. На заседании военного трибунала полковник (исполняющий обязанности адвоката) произносит блистательную речь. Залп громкий и холостой. Приговор уже вынесен, троих расстреляют на рассвете свои же товарищи. И вот тут очень кстати боевые знамена и барабанная дробь. Полковник посмотрит на казнь колючими глазами, до невозможности выпрямит спину и сдаст преступного генерала вышестоящему начальству (тот в разгар боя неосторожно отдал приказ стрелять по своим). И кое-какая справедливость восторжествует — с карьерой высокопоставленной истерички в погонах будет покончено. Война судит так: пуля — дура, а нервничать не надо.
Война не только «нарушает строй и портит мундиры», но и щедро поставляет сюжеты для судебных драм.
Всю жизнь испытывающие сомнения в собственном патриотизме, британцы снимают кино о бессмысленном цинизме войны. Судят простого солдата, честно сражавшегося «За короля и Отечество». Он ничего не сделал — просто совершенно нечеловечески устал. Теперь его расстреляют как дезертира. На светлоглазого паренька, который явно двинулся рассудком и очень хотел домой, адвокат (Дирк Богард) смотрит с тем невыносимым чувством, которое часто возбуждает в интеллигенции чистосердечие «низших классов». Иллюзий-то нет. Только тоска. Это как раз один из тех военных сюжетов, благодаря которым послевоенная Англия переменилась до неузнаваемости. Под нескончаемым дождем, в грязи и мерзости, однополчане в пьяном угаре избивают дохлую лошадь и устраивают свой маленький суд над мокрой одинокой крысой. Меланхоличная невозмутимость режиссерского взгляда заставляет думать, что весь этот «символизм» вполне мог быть цепью реальных наблюдений.
Солдата расстреляют. Адвокат, офицер и джентльмен, останется с ним до конца. Получив смертельные ранения, бедняга будет еще жив. «Неужели это еще не конец? — спросит Богард. — Нет, сэр, простите». И офицер наконец сделает для солдата лучшее, на что способен. Попросту пристрелит его.
Теперь в кино все больше стреляют по своим или просто куда попало. Солдаты Голливуда испуганы и агрессивны. Кровожадная армия пожирает самое себя на пограничных базах, и противостоят этому только офицеры-адвокаты — «несколько хороших парней», стреляет по мирному ближневосточному населению (или не очень мирному — в зависимости от того, готовы ли вы разделить скамью подсудимых с дальновидным, но, несомненно, фашиствующим полковником) — таковы «Правила боя» Уильяма Фридкина, 2000. За все за это будут судить. Война не только «нарушает строй и портит мундиры», но и щедро поставляет сюжеты для судебных драм.

Суд над сексом: преступления на почве страсти
«Письмо», реж. У. Уайлер, 1940
«Дело Парадайн», реж. А. Хичкок, 1948
«Приговор», реж. М. Беллоккьо, 1991
С неизбежностью под судом оказывается не только война, но и любовь. Это две «равно уважаемые» и, пожалуй, самые древние причины судебных разбирательств. В цветном широкоформатном кино во всем виновными признают «дам червей», шикарных раскованных блондинок — они доводят до инфаркта миллионеров (Мадонна в «Тело как улика»), убивают мужей и сводят с ума психоаналитиков (Ким Бэсинджер в «Окончательном анализе»). В черно-белом кино под суд попадали «дамы пик», в крайнем случае — треф. Те, о которых невозможно было и подумать. Настоящие леди. Те, которые «не шевелятся». И уж тем более — не стреляют и не травят ядом.
…Она разливает чай, ласково щебечет с гостями, чуть приподнимает безупречную, «в ниточку» выщипанную бровь, смотрит прозрачными рыбьими глазами Бетт Дэвис, берется за вязание. А в это время с крыльца убирают труп мужчины. Она была одна в доме, она очень испугалась. Дело, о котором идет речь в «Письме», происходит на колониальном Востоке, и дом этой женщины — оплот цивилизации, ее супруг — один из столпов этой цивилизации, а сама леди — нежнейший из ее символов. («Перемена участи» Киры Муратовой — по тому же рассказу Моэма — также происходит в экзотических условиях, среди какого-то гротескного «татаро-монгольского ига». Героиня Натальи Лебле — авторский, внежанровый вариант нежно-льдистой Бетт Дэвис. Меж тем настоящим «скифом» с раскосыми и жадными очами, жертвой и орудием страсти, окажется именно она, а не тихие местные аборигены). На суде леди будет безупречна, после суда изысканное общество ждет светский прием. Нет мотива, нет состава преступления. Убитый — друг семьи. Невероятно жаль. Вот только маленькое письмо, да и не письмо даже — записка. В которой все: и страсть, и любовь, и отчаяние. И мотив. Мир не перевернется — просто безостановочное нервное вязание завершено, и труп леди потеряется в экзотическом ночном пейзаже.
Понятно, что дело происходит не в американском суде.
А вот у Хичкока мир перевернется. Как раз в тот момент, когда прямо в зале суда адвокат (Грегори Пек) узнает о своей подзащитной, миссис Парадайн, нижеследуюшее. Леди Совершенство, ангел чистоты и благородства, посвятившая себя уходу за слепым супругом, — во-первых, была смертельно влюблена в лакея, во-вторых, лакей ее отверг, в-третьих, его, лучшего в мире адвоката, влюбленного в нее, она презирает и ненавидит и, в-четвертых, она отравила мужа. Грегори Пек в изнеможении вытрет испарину со лба… и, присмиревший, вернется к собственной супруге, ангелу верности.
Наконец, в «Приговоре» Марко Беллоккьо «главный обвиняемый» покажется на публике. Как-то ночью, после экскурсии по дворцу Фарнезе, один феноменально убежденный в своем «мачизме» архитектор запрет в залах дворца приглянувшуюся экскурсантку и, как теперь говорят, «сделает с ней секс». Немного подумав, девушка подаст в суд за изнасилование. В свою защиту подсудимый заявит следующее: «В особых обстоятельствах слово «нет» можно истолковать как «да»». И станет распространяться об исключительности «особых подсознательных порывов», утверждая, что женский оргазм — достаточный повод для мгновенного освобождения из-под стражи в зале суда. Эта поистине захватывающая логика (понятно, что дело происходит не в американском суде, и в кресле судьи не сидит какая-нибудь въедливая непрошибаемая старая негритянка) вызывает у присутствующих большое сочувствие. «Вам кажется разумно использовать музей ночью для соития?» — только и пролепечет жалкий прокурор. И не случайно подсудимый получит букет алых роз (от заинтересовавшихся его концепцией дам), а прокурор — натурально, тортом в физиономию — от глубоко удовлетворенной истицы. Вышло забавно. Очень «по-европейски» — как сказали бы американцы, сажая идейного насильника в Сан-Квентин лет на двадцать.

Суд над крупным капиталом
«Эрин Брокович», реж. С. Содерберг, 1999
«Гражданский иск», реж. С. Зэйлиэн, 1998
«Благодетель», реж. Ф.Ф. Коппола, 1997
«Свой человек», реж. М. Манн, 1999
В начале — медицинский диагноз. Болезни страшные, чаще всего — неизлечимые. Первыми заболевают дети. И обычно это лейкемия или иная форма рака. Дань, которую общество платит за блага цивилизации. Вопрос — кому платит? Разумеется, крупным корпорациям. Судебные разбирательства, где слушаются дела, связанные с нарушением экологии и медицинскими проблемами, — нечто новое в современном кинематографе. Особый, дьявольски активно развивающийся «поджанр» судебной драмы, который рекрутировал необычного героя, способного проникнуться состраданием (в идеале), годами бескорыстно бороться с обнаглевшими капиталистами и в итоге, выиграв, разделить с оставшимися в живых жертвами баснословный куш. Эффектная многодетная мамаша Эрин Брокович (Джулия Робертс), пробивающая своей невообразимой грудью дело о вредоносном воздействии шестивалентного хрома на здоровье сограждан. Преуспевающий адвокат (Джон Траволта), потративший годы и состояние (в том числе — своих коллег) на то, чтобы в речку где-то в Новой Англии перестали сливать ядовитые химикаты. Он разорился, но добился своего: «они» заплатили 60 млн. долларов родителям погибших от лейкемии детей. Начинающий благодетель-адвокат (Мэтт Дэймон), еще до получения диплома ввязавшийся в тяжбу с крупнейшей страховой компанией, отказывающейся выплатить деньги юноше, умирающему от лейкемии. «Свой человек», бывший вице-президент фирмы, и тележурналист (Рассел Кроу и Аль Пачино), разоблачившие ведущую табачную корпорацию, которая внедряла в состав сигарет ингридиенты, способствующие привыканию. Характерно, что практически все эти сюжеты основаны на реальных событиях. Вышедшие обоймой в конце 90-х, фильмы эти — не истории об экологических нарушениях. Это судебные драмы, утверждающие, что «развитой капитализм» — самый опасный из диагнозов.

Суд большинства
«Филадельфия», реж. Д. Демме, 1993
«Убить пересмешника» реж. Р. Маллиган, 1962
«Судебный процесс», реж. П. Гленвилл, 1962
«Истина», реж. А.-Ж. Клузо, 1960
«Народ против Ларри Флинта», реж. М. Форман, 1996
«Твои перспективы ограничены» — под этим девизом молодой преуспевающий адвокат (Том Хэнкс) был уволен владельцем фирмы. Потому что у него обнаружили СПИД. Все это происходило в «городе братской любви» — в Филадельфии. Когда Демме снимал свой фильм, к СПИДу относились, как к чуме, шарахаясь от прикосновений заболевших точно так же, как в испуге поспешил ретироваться адвокат — Дэнзел Вашингтон. Но в юридической драме даже от СПИДа есть лекарство. Это фраза: «Я знаю свои права». И больной адвокат подпихнул здоровому коллеге книжку свода законов. А там как раз было написано про дискриминацию, основанную «не на личных качествах, а на принадлежности к группе с присвоенными характеристиками». Героя Хэнкса уволили не за то, что он был болен СПИДом, а за то, что он — гей. Бедняга умер в мучениях, оставил Бандераса вдовой, но дело выиграл и преподал всем суровый урок политкорректности.
Америка начинала учиться этой науке на примере расовых проблем. Дело было где-то в маленьком городке американского Юга: девица, принадлежащая к «белой рвани» подавляющего местного большинства, ложно обвинила чернокожего в изнасиловании («Убить пересмешника»). Только благодаря усилиям лучшего в мире папы одной девочки по имени Глазастик, по совместительству — местного юридического светила Аттикуса, обвиняемый вообще дожил до суда. Судебное заседание, помимо блестящей речи адвоката, было характерно и тем, что цветные там, согласно всеобщим правилам, сидели отдельно от белых, на галерке. Когда белые присяжные вынесли негру вердикт «виновен» и публика покинула зал, люди на галерке встали, чтобы приветствовать адвоката, рискнувшего (своей жизнью, жизнью своих детей) до конца защищать черного. И никаких дополнительных аргументов, дабы осудить расизм, не требуется — если у вас есть Грегори Пек, сыгравший в этом фильме главную роль. Понятно же, что те, кто не поверил ему, просто не могут быть настоящими американцами.
В своей речи адвокат Аттикус обвинял в преступлении «нищету и невежество». Таковы причины большинства социальных драм, не обязательно расовых. Нищета и невежество, провоцирующие конфликт между обывателями и интеллигенцией, — в основе британского «Судебного процесса». Простой школьный учитель английского, человек, обладающий разносторонними знаниями и развитым вкусом, в последнем романтическом порыве надвигающейся старости слегка увлекся своей юной ученицей — девушкой милой и весьма способной, из «простой семьи». Помимо дополнительных уроков он позволил себе «лишнее» — купил девочке игрушечного пуделя и показал Эйфелеву башню. И все. А между тем, учителя играет сэр Лоуренс Оливье, а ученицу — дебютантка Сара Майлз. И тут драма. Не поддавшегося на девчачью провокацию мужчину оскорбленная девица, при поддержке многочисленной туповатой родни, обвиняет в непристойном поведении. Речь Оливье на суде — это крик отчаяния пожилого интеллигента, не выдерживающего давления дешевых мещанских представлений о жизни. Разрозненное культурное сообщество — самое уязвимое из всех меньшинств, геям в этом отношении до него далеко. Характерно, что до своей ученицы герой Оливье докричится, и она прямо в зале суда снимет все обвинения. Он был наверняка чертовски хороший учитель.
В суде собрались бесповоротно взрослые люди.
Еще одна нуждающаяся в особом внимании судебной драмы малая социальная группа — это молодежь. Ее редко рассматривают в качестве «угнетаемого меньшинства» (потому что молодежь всегда «не та, что раньше»), однако наиболее прозорливые художники понимают, чем может быть чревато недостаточное внимание общества к ее проблемам и особенностям. За восемь лет до парижских баррикад 1968-го Клузо снимает «Истину». Хорошенькая и глупенькая, как птичка, героиня Брижитт Бардо влюбилась, потом разлюбила, потом снова влюбилась, потом… нет, это не считается, а после этого опять влюбилась — но к тому времени он (Сэми Фрей) ее уже не любил. И она его застрелила. Пробовала покончить с собой, но — до того неудачно, что суд ей совсем не поверил. В суде собрались бесповоротно взрослые люди. Пока два мэтра, обвинитель и защитник, перебрасываются саркастическими замечаниями и остротами, для дачи показаний приглашаются нахальные юнцы, думающие, что «Париж принадлежит им». Они мнят себя писателями и музыкантами (будучи оболтусами и «стилягами», как сказали бы в России) и смеют утверждать, что преступницу должны судить «такие же, как они сами», то есть молодые люди. Если пена «новой волны» Клузо слегка забавляет, то буржуазное общество, состоящее из усталых циников, ему решительно претит. Девочка, кричащая, что ее судьи никогда никого не любили, похоже, попала в самую точку. Не дожидаясь приговора, она все-таки кончает с собой. Осудив себя судом тех, кто еще предъявит свои права на Париж. Мэтры вздохнут, покачают головами и вспомнят, что на следующей неделе обвинитель и защитник должны поменяться местами. В конце концов, респектабельному большинству не должно быть дела до какой-то девчонки…
…Лидер «Движения морального большинства», преподобный Фолвелл, самодовольный тупица и ханжа, однажды прочел о себе в одном журнале, что он, преподобный, занимался сексом с собственной матерью на заднем дворе своего дома. Журнал назывался Hustler, а его владельцем был Ларри Флинт. Именно это дело Флинта (а не иски о распространении порнографии) дошло до Верховного суда США. Там, рассмотрев жалобу «лидера морального большинства», суд решил дело в пользу «аморального», сатирически настроенного меньшинства, признав, что «свобода самовыражения является не только аспектом индивидуальной свободы, но и важнейшей общественной ценностью». Прошу занести в протокол. А пока Ларри Флинт этого не знал, он приезжал в суд в футболке с надписью «Fuck this court». И в большинстве случаев социальному меньшинству просто нечего добавить к этой надписи.

В суде — «маленький Человек»
«Месье Верду», реж. Ч. Чаплин, 1947
Маленький человек в качестве жертвы преступления или жертвы самой судебной системы — это банально и скучно. Куда занятнее маленький человек на скамье подсудимых. Особенно если это — серийный убийца. Месье Верду (в основе образа — реальный убийца месье Ландрю, о котором снял одноименный фильм Клод Шаброль) — прекрасный муж, превосходный семьянин, уволенный с работы вследствие неблагоприятных экономических условий. Будучи неплохим психологом, талантливым манипулятором и к тому же обладая несравненным обаянием постаревшего Чаплина, он не нашел лучшего способа прокормить семью, нежели начать охоту за богатыми скучающими дамочками. Этот весьма респектабельный, буржуазный до абсурда, элегантный до гротеска «Синяя борода» убивает только потому, что хочет выжить. (Впрочем, жертвы его вызывают не больше сочувствия, чем какие-нибудь одураченные великаны-злодеи в ранних чаплиновских лентах). Мораль животного мира, поданная в цинически-очаровательном исполнении седого Шарло, вызвала легкую оторопь (критики не могли простить Чаплину эксплуатацию легендарного образа в сомнительных, как им казалось, целях). А чаплиновский «маленький человек» готов был рискнуть собой, только чтобы привести в суд ХХ век. На суде по-прежнему весьма любезный месье Верду сравнит свои частные преступления с происходящими на глазах и остающимися безнаказанными массовыми истреблениями людей на войне: «Женщин и детей разносят в клочья в строго научных целях. По сравнению с ними я — всего лишь жалкий любитель… Не знаю, как кто-то может быть образцом злодея в наш век. Масштабы оправдывают все». Тем, кто терпел «великого диктатора» и продолжает терпеть массовое насилие, не должно быть дела до почтенного буржуа, сжигающего в печке своего чудного дачного домика очередную женушку. (Любопытно, что подобный пафос, хотя и в более мирной форме, будет подхвачен другим известным кинобунтарем — Ларри Флинтом: «Что более непристойно — секс или война?») Этот мир осужденный на смерть месье Верду покинет с репликой, достойной мольеровского Дон Жуана: «Отец мой, чем могу быть вам полезен?» — участливо спросит «маленький преступник» ошарашенного священника. Сам ХХ век, по-мольеровски верящий только в то, что «дважды два — четыре», и есть главный злодей ХХ века.

Суд присяжных
«12 разгневанных мужчин», реж. С. Люмет, 1957
«Вердикт», реж. А. Кайатт, 1974
Комната, где по окончании прений сторон собираются люди, дабы, внимательно рассмотрев все аргументы, вынести свой вердикт по делу, — лакомый объект и для театра, и для кино. Герметичная среда, замкнутая система. Вопрос о том, что же происходит в тайной совещательной комнате, не может не волновать любопытных кинематографистов. И они все чаще пытаются смоделировать вторжение злонамеренной силы в святая святых западного правосудия. Остается уповать на гражданскую совесть невольного носителя преступной воли («Присяжная») или попросту верить в систему, каким бы изощренным испытаниям она ни подвергалась («Вердикт за деньги»).
Фотогения в конечном итоге решает все.
Впрочем, с самого основания традиции судебных драм суд присяжных рассматривался как источник непримиримых внутренних противоречий, унаследованных от внешней среды. «12 разгневанных мужчин», «типичных представителей» самых разных сфер американской жизни, собрались, чтобы вынести приговор мальчишке, которого застали над трупом убитого отца. Уверенность в чьей-либо виновности связана прежде всего с наличием собственного мнения по поводу каждого поворота дела — именно эту позицию пытается отстоять тихий, незлобивый, но абсолютно непоколебимый гуманист, сыгранный Генри Фондой. Свободное, независимое мнение в пережившей «охоту на ведьм» Америке дорогого стоит. Один за другим одиннадцать мужчин (разгневанных двенадцатым и сопротивляясь из последних сил) начинают задумываться о реальных обстоятельствах преступления, о человеке, судьбу которого они решают, постепенно утрачивая былое равнодушие. И из обывателей становятся гражданами. Рождение полноценного гражданского общества за несколько часов в запертой комнате — и есть восхитительно патриотический и оптимистический итог этой судебной драмы.
А вот во французском «Вердикте» Кайатта суд присяжных не уберег систему от роковой ошибки. Потому что напутствовать их явился судья — Жан Габен (поддавшийся на шантаж весьма решительной вдовы гангстера — Софи Лорен). Отчаявшийся (хотя по виду не скажешь) старик поставил под сомнение статью закона, разрешающую присяжным выносить вердикт согласно «внутреннему убеждению, которое не нуждается в причинах». «Вы можете быть убеждены черт знает в чем», — удовлетворенно подведет итог Габен. И с легкостью именно черт знает в чем всех и убедит. За что в итоге и поплатится (и честью, и гибелью жены). Пусть апологеты судебной системы всецело рассчитывают на убежденность присяжных. Кинематограф твердо уверен в одном: важно, кто и в чем их убеждает. Фотогения в конечном итоге решает все.

Адвокат в суде
«Свидетель обвинения», реж. Б. Уайлдер, 1957
Этого толстого, обманчиво мягкого и уютного человека с внешностью удалившегося на покой сэра Уинстона Черчилля, не расстающегося с сигарой и виски даже под угрозой инфаркта, в этой жизни ничто, кажется, уже не способно удивить. Он — лучший адвокат Соединенного Королевства. И Соединенное Королевство знает об этом. И он знает, что Соединенное Королевство знает… Они вообще назубок знают друг друга — он, Адвокат (Чарльз Лоутон) и старая добрая Англия. Им уже нечего сказать друг другу. Он болен, очень болен. Она — предсказуема, слишком предсказуема. Им незачем встречаться в суде, незачем выяснять истину. Разве только за тем, чтобы жить. К нему, только что вышедшему из больницы, примеряющему умопомрачительные бермуды, дабы ехать на отдых, приходит лучезарный брюнет, невинный, как обвиненный в предумышленном убийстве младенец. А вслед за этим агнцем приходит жена, единственное, зато железное алиби своего супруга. Герой Лоутона видит всех насквозь — просвечивая клиентов слепящим лучом своего монокля, утопленного куда-то в пухлую щеку. Но эта женщина — Марлен Дитрих. И она непроницаема. Он решил, он выступит в суде. А значит — к черту сердце, он будет грызть таблетки, как леденцы, и запивать их бренди; взволнованно тряся черчиллевскими брылями, спешить на встречу с неизвестным, жмуриться от боли и, едва не теряя сознание, вставлять по ходу процесса ехидные и точные реплики. И возвышаться в зале суда, как скала (или как прикованный к ней титан), увенчанная традиционным курчавым паричком. И вот когда «эта женщина», обманувшая все его надежды и ставшая свидетелем обвинения, всем рискнет, все выиграет (добьется признания мужа невиновным), все проиграет (убийца-муж предал ее), совершит убийство, покарав предателя, и упадет-таки в обморок (женщина!) — он склонится над ней. И объявит себя ее адвокатом. Потому что она очень нуждается в защите. Потому что она трижды удивила его. И потому что сердце, кажется, уже не болит…
«Защитнику: защити себя сам!» — таков вердикт современного Голливуда.
Нет, единственный и неповторимый герой Лоутона, конечно, не из тех американских юристов, о которых рассказывают бесчисленные анекдоты. «Что лучше, чем две тысячи адвокатов на дне морском?» — ну, например, несколько параллельных телесериалов о судебных процессах и повседневной жизни адвокатских контор. В современном Голливуде, для того чтобы сыграть адвоката, совсем не надо сниматься в судебной драме — подходящая роль найдется практически в любом американском фильме. Если в конце восьмидесятых — начале девяностых годов прошлого века к адвокатам еще относились всерьез, с уважением и даже некоторым мистическим страхом (истинный защитник мог быть добрым, как ангел, — Ричард Дрейфус в «Чокнутой» Мартина Ритта, или пойти на поводу у собственной профессиональной гордыни и стать самым настоящим «адвокатом дьявола» — Киану Ривз в одноименном фильме), то начало нового века воспринимает адвоката скорее как фигуру страдательную, комическую: Джим Керри в фильме «Лжец, лжец», Пирс Броснан и Джулианна Мур в «Законах привлекательности», Джордж Клуни в «Невыносимой жестокости». «Защитнику: защити себя сам!» — таков вердикт современного Голливуда.
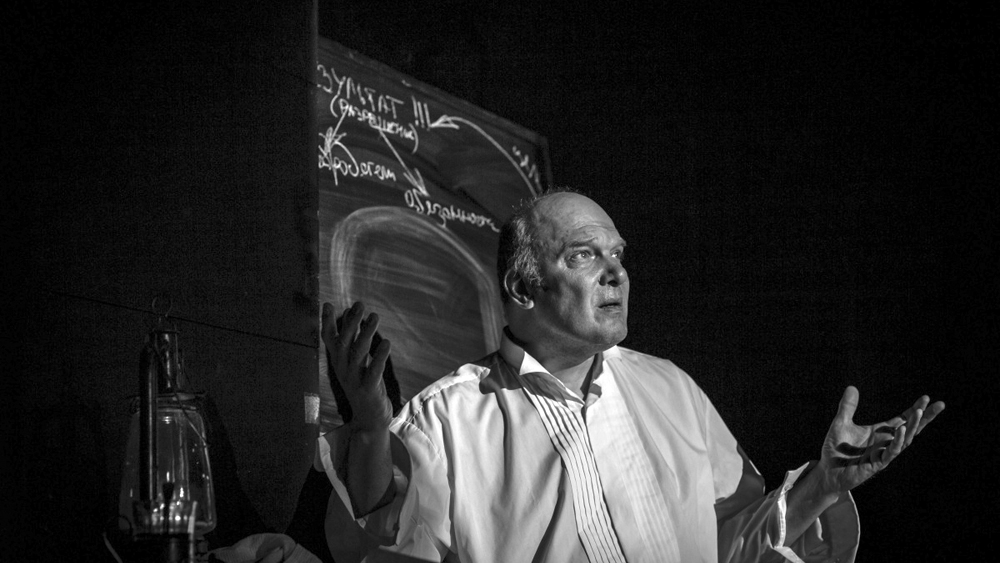
Судья и самосуд
«Весь город говорит», реж. Дж. Стивенс, 1942
«Человек на все времена», реж. Ф. Циннеманн, 1966
Вопрос «а судьи кто?» является едва ли не ключевым для любой судебной драмы. Осознавая свое привилегированное положение (особенно в тех странах, где независимость судьи является непреложным законом), судьи в кино периодически проходят через серьезное искушение, а именно: взять в свои руки не только вынесение и утверждение приговора, но и его исполнение. Обычно — из лучших побуждений: помочь тому, кто сказал «Аз воздам». В комедии «Весь город говорит» самонадеянный и обаятельный герой Кэри Гранта за свои гражданские подвиги был бы непременно подвергнут суду Линча несознательными горожанами, если бы одна ужасно милая девушка не поселила его по старой дружбе в один дом с очень уважаемым судьей. Судья был вынужден пережить романтическое увлечение, сменить ряд привычек, сбрить бороду, поучаствовать в укрывательстве подозреваемого и похищении свидетеля, однако неправому делу свершиться не дал, линчеванию помешал и помог восторжествовать закону и порядку. За что и получил высокий пост в Верховном суде США, красивую мантию и новую бороду. Правда, девушка в итоге все равно досталась Кэри Гранту. Но тут уж каждому свое. По справедливости.
Он ли судил, его ли судили…
В фантастическом боевике «Судья Дредд» герой Сильвестра Сталлоне «совмещает» функции полицейского и судьи: догнал, дал в зубы, арестовал — и тут же осудил. Ловко. Но когда дело не касается фантастических утопий или антиутопий, то судейский самосуд воспринимается как благие намерения, ведущие в их обычном направлении. Молодой перспективный судья, герой Майкла Дугласа в «Звездной палате», профессионально и человечески травмированный парадоксами юридической системы, вступает в закрытый клуб «мстителей» (таких же судей). Ад и хаос не заставят себя ждать.
Идеальный судья мирового кинематографа закономерно оказался и идеальным подсудимым — поскольку вне зависимости от своего места в зале суда он в равной степени уважает закон и почитает Господа. Сэр Томас Мор, бывший судья, бывший лорд-канцлер королевства, обвинен в государственной измене — он не принимает присягу, в которой признается незаконным первый брак короля и законным — второй, с Анной Болейн. Учитывая, что речь идет о только входящем во вкус Генрихе VIII и последовавшей кровавой реформации, — сэр Томас, судья, не только честнее, но и практичнее всех здешних циников. Перед ним бессильна низость (предательство и лжесвидетельство не замедлят появиться, но не добьются от него ни ненависти, ни снисхождения), его не смущает и не радует лесть, ему чужд страх смерти — ведь он в любую минуту готов предстать перед Всевышним, он свободен от злобы и гордости, чувство собственного достоинства и личная совесть для него важнее любых государственных интересов. «Его молчание производит впечатление на всю Европу. Есть ли в Англии хоть один человек, который не знает, о чем молчит сэр Томас Мор?!» Все это вместе — «поистине такое сочетанье, чтоб дать Вселенной образ человека». Он ли судил, его ли судили… Это был герой великого Пола Скофилда — «Человек на все времена».

Неправый суд
«Танцующая в темноте», реж Л. фон Триер, 2000
Маленькая, смешная женщина с носом-пуговкой и детскими хитренькими глазками, в грошовом платьишке и потешных очках с толстыми стеклами. Работает на заводе, где делают тазы. В грохоте железа слышит музыкальный ритм, репетирует Марию в самодеятельных «Звуках музыки», живет в придуманном мире, где у нее — тихой эмигрантки из Чехии — есть отец (известный танцовщик), где люди поют и танцуют, как в прекрасных старых мюзиклах, где она сама поет, как Бьорк. Она не может купить сыну на день рождения подержанный велосипед. Откладывает деньги, все, до последнего цента, ребенку на операцию. Он может ослепнуть. Потому что она уже практически ослепла. Это наследственное. Ее лучший друг, самый добрый человек на свете, полицейский, узнает, где деньги, и заберет их. У него своя драма и жена-красавица. Его поступок — сам по себе несчастный случай. И то, как трогательная слепнущая пигалица будет стрелять в лучшего друга, умоляющего добить его, сделает этот случай лишь еще более несчастным. Она не убила, она изо всех сил пыталась помочь. На суде этого не объяснить. Прокурор холодно иронизирует, сверяет факты, приводит какие-то аргументы, пожилой дяденька, знаменитый чешский танцовщик, говорит, что не знает эту женщину. Невыносимо. Пусть лучше танцуют. Массовый, «низовой» музыкальный жанр только подчеркнет трагическую высоту происходящего. Во всяком случае — попытается подчеркнуть. Всеобщая лихая чечетка в зале суда дает зрителю шанс немного побыть наивным. Потому что катарсис в этой трагедии не предусмотрен. Ее осудят, повесят, и она умрет. Совсем-совсем умрет. Без единого намека на что-либо возвышенное. Вроде бы и не святая. А судить нельзя было. «А на что тут смотреть?» — спрашивала она, когда ей рассказывали о радостях мира. Да пожалуй, и не на что — она все уже видела.

Самый гуманный суд в мире
«По закону», реж. Л. Кулешов, 1926
«Прокурор», реж. Е. Иванов-Барков и Б. Казачков, 1941
«Слово для защиты», реж. В. Абдрашитов, 1980
«Покаяние», реж. Т. Абуладзе, 1984
Юридическая процедура «отвода» (пристрастного судьи, неугодного адвоката, предвзятого присяжного) обычно является маргинальным элементом судебной драмы. В России же по сути вся судебная драма — это сплошной «отвод». Здесь «отводят» юриспруденцию как таковую, видя в ней неблагонадежный инструмент решения сложных проблем. Сомневаемся мы.
В фильме Кулешова «По закону» герои (затерянные в снегах Юкона золотоискатели — муж и жена) вынуждены заново изобрести судебную систему, дабы определить судьбу своего бывшего товарища, а ныне — опасного убийцы, перестрелявшего участников экспедиции. Пережившие потоп почти библейского масштаба супруги пытаются сохранить рассудок (женщине — Александре Хохловой — это дается очень нелегко) и оставаться цивилизованными, богобоязненными гражданами. Вешают на стенку портрет королевы Виктории, сжимают замерзшими ручками Библию и, по очереди изображая то присяжных, то свидетелей, то судей, рассмотрят дело и вынесут приговор: повесить. И ведь повесят (мучительно, с колоссальным трудом, бегая под деревом и высоко задирая острые коленки). Да только в бурную ночь в избушку ввалится осужденный с петлей на шее, напугает до полусмерти законопослушных отшельников и отбудет восвояси. Что-то все-таки не так с этим правосудием. Ненадежное это дело — поступать по закону.
А в России иначе как «по душе» и судить-то незачем.
Квинтэссенция романтического отношения к сталинской судебной системе — фильм «Прокурор». Дело происходит в Туркменистане. Прокурор, воплощенная мать-Туркмения, по всей строгости советского закона судит врагов народа, произносит пламенные речи, терпеливо дожидается приговора суда, попивая чай в серале. И вспоминает, как двадцать лет назад она, освобожденная женщина Востока, скакала на освобожденной лошади Востока, пытаясь спасти сына. Далее следует достойный Голливуда сюжет о пропавшем прокурорском сыне, честном комсомольце, чью безупречную биографию едва не замарала попытка выплатить старорежимный калым родителям любимой невесты. Невеста получила удар кинжалом, и вот уже под барельефом Ленина-Сталина прокурор судит собственного сына (совсем как в душещипательном городском романсе). На формальное заявление «слово предоставляется защитнику» следует ключевая реплика фильма: «Не надо защиты, не надо!!! Мой сын не виновен!» (ее произносит старый отец комсомольца — он чуть было не убил несостоявшуюся невестку по древнему «отжившему» обычаю). Важно не то, кто девушку резал, а то, что настоящему советскому человеку никакие адвокаты не нужны. У него Родина-мать — прокурор.
С удовольствием поиграть в судебное разбирательство в советское время можно будет только на зарубежном материале — так, весьма сильное впечатление на отечественного телезрителя произведет телесериал Семена Арановича «Рафферти» (о криминальных извивах американской профсоюзной системы с Олегом Борисовым в главной роли). Но в основном отношение к суду — это отношение к государству, грубо вмешивающемуся в личные дела граждан, это недоверие к закону и неприятие узаконенной морали. Ничего хорошего не может сделать суд, вторгаясь в любовные дела молодых супругов («С любимыми не расставайтесь»). Ничего толком не решает суд в женских судьбах героинь «Слова для защиты». Ни в судьбе подсудимой (Марины Нееловой), многократно и страшно преданной любимым человеком и пытавшейся отравить газом его и себя (дали 3 года условно). Ни в судьбе ее адвоката (Галина Яцкина) — «странной женщины», истомившейся в по-щедрински «поумневших» 70-х (уедет от нелюбимого жениха — Янковского). Характерный диалог двух ровесниц, вместе покупавших кримплен на Арбате: «Вы отказываетесь от защиты? — Конечно, я же говорила, что мне адвокат совсем не нужен». Эта хрупкая русская женщина, выкормившая и выпестовавшая мужчину, который мизинца ее не стоит, — донор. По обстоятельствам. По сюжету. По сути. По жизни. Какие уж тут адвокаты?

Впрочем, суд, которого в этой стране ждали десятилетиями, все-таки состоялся. «Покаяние» Тенгиза Абуладзе — глобальные последствия скромного судебного разбирательства по делу одной эксцентрической особы, дочери художника, каждую ночь выкапывавшей труп недавно почившего достойного члена общества, в недалеком прошлом — мудрого руководителя, любимого вождя и лучшего друга всех оперных певцов. Любопытно, что фильм, являющийся главным эпиграфом к последовавшей перестройке, к судебному разбирательству как таковому относится более чем скептически. Это скорее пародия на буржуазное судопроизводство со всеми необходимыми атрибутами: взбудораженными адвокатами, потряхивающими кисточками на шапочках, туповатым судьей в мантии и парике, уморительными прениями сторон. Истинный приговор по делу кровавого тирана Варлама Аравидзе выносит сначала его внук (покончив с собой), а потом — его сын (выкопав и выбросив труп отца на свалку). Не в обычном суде решать такие дела. Перед запоздалым раскаянием и отчаянием целой страны юриспруденция опять оказалась бессильна.
Вообще же «суд в России», в основе отношения к которому лежит непреодолимая пропасть между народом и властью, — предприятие изначально сомнительное. Веками тут существует твердое, хотя и не всегда внятно артикулированное мнение: нет у «них» для нас правды. «Деточкин виноват. Но он… не виноват. Пожалейте его, граждане судьи, он очень хороший человек!» — и голос Максима Подберезовикова предательски дрогнет. Да не пожалеют они, где им душу-то нашу понимать! А в России иначе как «по душе» и судить-то незачем. Ну не заставить басурманам русского человека произнести басурманскую фразу «Я знаю свои права»! Не дождутся. А дождутся — вот тогда и встретимся в суде.







