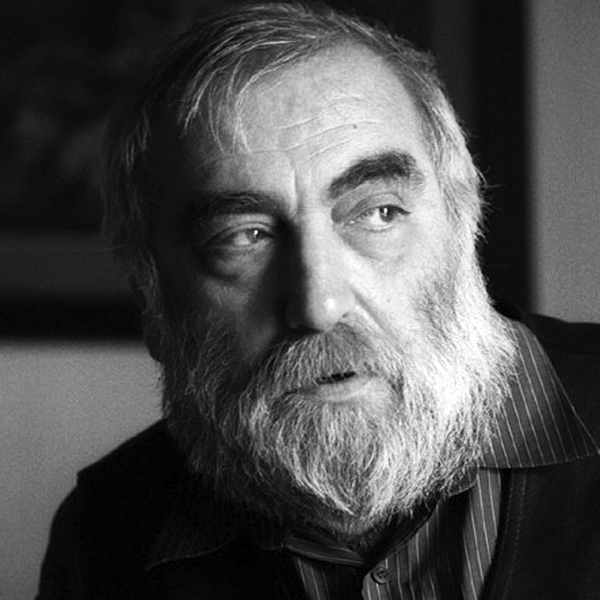Сон во сне
В 1999 году я опубликовал автобиографический роман «Двойное дно». Издатель дал книге подзаголовок «Признания скандалиста»; не возьмусь судить, в какой мере откровенны были «признания», но вот словечко «скандалист» прилипло намертво. Что само по себе забавно: человек я тихий, замкнутый, необходимостью лишний раз выйти из дому или хотя бы позвонить по телефону тяготящийся. «Скандальна» лишь моя литературная и полити ческая публицистика, да и то… Единственный подлинно эпатажный момент — категорический отказ вешать лапшу на уши читателю той или иной статьи, лишь бы не задеть бесцеремонным образом ее фигурантов: священные коровы чаще всего оказываются холощеными волами, похотливыми козлами или элементарными свиньями… Я пишу (и говорю) то, что думаю. В результате получается Новое Хамство, слывущее моим эксклюзивным ноу-хау, хотя последователей у меня — уже в нулевые — до Москвы рыбкой не переставишь. И в обратном направлении, разумеется, тоже.
В начале девяностых мне было сорок пять, сейчас — шестьдесят; ума уже не прибавится, да и с мудростью — чем дальше в лес, тем все больше вприглядку или на ощупь. Заметный успех книги, в которой, в меру разумения, описаны в том числе и девяностые, не побудил меня тут же засесть за ее продолжение. Напротив, я решил «сначала еще пожить», более того — резко изменить образ жизни — и, воспользовавшись подвернувшимся предложением, впервые после тридцатилетнего перерыва поступил в 2000 году на службу. И ушел с нее — не то вновь в вольные стрелки, не то в литературные пенсионеры — всего пару месяцев назад. Пять с половиной лет я издавал «чужие слова» — и не столько с этого, сколько этим жил. Таким образом, девяностые для меня сегодня past perfect или — по-немецки это звучит выразительнее — плюсквамперфектум: время, не просто закончившееся, но уже и попавшее во второй пласт личного культурного слоя. Продвижение современной прозы на книжный рынок, открытие новых имен, возня с литературными премиями, издательские обиды и страсти — обо всей этой «творческой деятельности» в нулевые (каков Фауст, таковы и лемуры) вспоминается по неостывшему следу куда острее, тогда как девяностые со своими политическими прежде всего страстями и бытовыми неурядицами уже как-то зажили, затянулись, ороговели. Сошли на нет.
Одним из первых проявлений невесть откуда взявшейся мудрости (или того, что я счел мудростью) стало обидное осознание того факта, что моя личная выгода — и утилитарная, и, если угодно, экзистенциальная — с интересами большинства расходится. Мне пойдут на пользу демократия, о которой тогда столько мечтали, и рынок, а стране — нет. И не только абстрактной стране и столь же абстрактному народу, но и той вполне конкретной среде, с которой я, по слову поэта, имел в виду сойти со сцены и, строго говоря, уже сходил. Я ощущал себя одним из немногих везунчиков в толпе обманутых вкладчиков какой-нибудь «пирамиды». Мне было неловко. И вдвойне неловко от того, что «вкладчики» отнюдь не чувствовали себя обманутыми; напротив, предвкушая сказочные барыши, пребывали в перманентной эйфории.
Тем большее недоверие испытывал я к другим везунчикам. Потому что они-то как раз совершенно сознательно работали на «пирамиду». Уверяя вкладчиков в том, что все у тех не сегодня, так завтра будет тип-топ. Предлагая запастись не солью и спичками, а терпением. Источая социальный оптимизм, на поверку оборачивающийся мошеннической формулой: «Фраеров надо учить!» Не спеша поделиться с аутсайдерами, в которых превратилось чуть ли не все население страны, инсайдерской информацией — даже в канун дефолта… Справедливости ради отмечу, что и они меня не жаловали и, называя скандалистом, скорее считали дураком и выродком. Бывало, и предлагали поделиться, лишь бы я заткнулся. Хотя чем дальше, тем реже — пряников этим любителям Окуджавы уже категорически не хватало на своих. Не потому что их (пряников) стало меньше или их (любителей) стало больше, а потому, что постепенно подросли аппетиты.
Самое занятное в том, что обманутые вкладчики оказались в определенном смысле правы. Прогорев дотла, обзавелись взамен «письмами счастья» за подписью какого-то небесного Мавроди и во весь голос заговорили о том, что они не халявщики, а партнеры. Проголосовали как партнеры руками и ногами 19 августа 1991 года, проголосовали как партнеры — но уже по «ящику» — 4 октября 1993 года, перестали ходить на собрания акционеров в 1995–1996-м, однако блаженного чувства сопричастности не утратили. В нашей интеллигенции поражает даже не безответственность, а беспамятство: вычитали где-то, что только негодяи не меняют убеждений, — и меняют их, как бумажные носовые платки, — высморкаться и выбросить. В конце девяностых всей гурьбою, гуртом и ордой полюбили невзрачного челове чка из коридоров Смольного, потом разлюбили, — и вот-вот полюбят вновь — как либерального Редедю, как единственный заслон на пути русского фашизма.
Девяностые — как, может быть, никакое другое мирное десятилетие, — походили на войну. Не на послевоенные годы с неизбежной разрухой, что было бы как раз объяснимо, а именно на войну — вяло текущую на фронтах, «окопную», но бушующую в тылу — со стремительными социальными лифтами (и бездонными шахтами) для одних, с элементарным выживанием для других и, конечно же, с пиром во время чумы для третьих. Потоки беженцев, мигрантов и «челноков»; массовый захват чужого жилья и «ничьих» предприятий (а потом и месторождений); телевизионные сводки из коридоров власти, как с поля боя; борьба организованной преступности с беспредельной; малиновые пиджаки как мундиры и золотые цепи как ордена; вразнос торгующая водкой, табаком и всепрощением Церковь и толпы целителей, знахарей, проповедников Белой Девы и конца света. Принцип «Умри ты сегодня, а я завтра!»; сугубо риторический выбор между ворами и кровопийцами; жизнь во мгле; и, естественно, чуть теплящаяся надежда на то, что любая война когда-нибудь да кончается. Собственно говоря, этим и взяли те, кто в конце десятилетия мастерски разыграл карту «Путин», — имя Ельцина означало продолжение самоубийственной для страны кампании на всех фронтах сразу, — и любой, кто пришел бы ему на смену, любой анти-Ельцин сулил мир. Похабный (по ленинскому слову), но мир. И того, что анти-Ельцина вытащили из ельцинского рукава, просвещенная публика предпочла не заметить. А непросвещенная — тем более.
Когда говорят пушки, музы молчат, — и в странную войну девяностых музы мычали. Это не было голодным мычанием, но не было и сытым: торопливый в своей бесконечности налет Гуляй-поля на фуршетные флеши и буфетные редуты расслабившихся победителей. «Бутербродные» журналисты — и сливные бачки спецслужб — и важняки от Гусинского с Березовским. «Открытое общество» Джорджа Сороса обучало нас честной жизни — и требовало за науку изрядный откат. Международные поэтические биваки лучше в Лондоне, но на худой конец хотя бы в Хельсинки. Конвертируемое литературоведение: Бродский, Довлатов, Набоков. Конвертируемое кино Лунгина. Правильное пиво по телевизору и правильные менты на «Ленфильме». Оккупационная марка, у. е. и «деревянные» керенки.
«Патриотическая» пресса называла это Временным Оккупационным Режимом (ВОР) — но оккупанты не церемонились бы рубить хвост по кусочку. Режим был компрадорским и, разумеется, мародерским; рыба гнила с головы — и дух вельми спертый стоял на Садовом кольце и шибал на Бульварном, хоть и впрямь выноси святого из Мавзолея. Армия распродавала оружие, чиновники — казну, ученые — гостайну, директора заводов — станки и сырье, рабочие — гайки и шестеренки, крестьяне валили электролинии. У деятелей искусства поначалу не покупали ничего, и они пребывали в растерянности, а отец и сын Михалковы и вовсе — в политической оппозиции.
В растерянности пребывали все, кроме телевидения. Девяностые стали его Аустерлицем — и только к концу десятилетия обозначилось Ватерлоо. НТВ победило Зюганова и проиграло войну в Чечне, ОРТ уничтожило Примакова, РТР породило Швыдкого. Но дело даже не в этом: виртуальное (сказочное, сновидческое) пришло на смену реальному; телесон стал ярче жизни, а потом стал жизнью, — если тебя нет в ящике, значит, тебя не существует в природе, — Леня Голиков в обнимку с Клавой Шиффер, и Собчак с Пугачевой, и наполеонистый Киселев, и нахрапистый Невзоров, и бессмысленно проблеявший целое десятилетие Явлинский. «Пирамиду» перенесли на голубой экран — и обрушили на наши головы прямо с него. Объявили мир в стране, как барон Мюнхгаузен объявил войну Англии.
Девяностые закончились почти по Элиоту: не взрывом, а пшиком. Закончились не как война, но как сон о войне, — облег чением в первую минуту по пробуждении. Но это был сон во сне, — и происходящее в нулевые — ничуть не меньшая и ни-чуть не менее гротескная фантасмагория. Тогда нам снилась война, теперь снится мир, — и у нас по-прежнему ничего не болит. А если по пробуждении у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Но мы не умерли — мы всего-навсего не проснулись.
Читайте также
-
Gransino Zet Uitgevers Naar Nieuwe Partnerschappen
-
А был ли мальчик? — Портрет Александра Яценко
-
«Такой именно день» Клавдии Коршуновой, премьера фильма
-
Сеанс-дайджест № 210 — Февраль 2026
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым