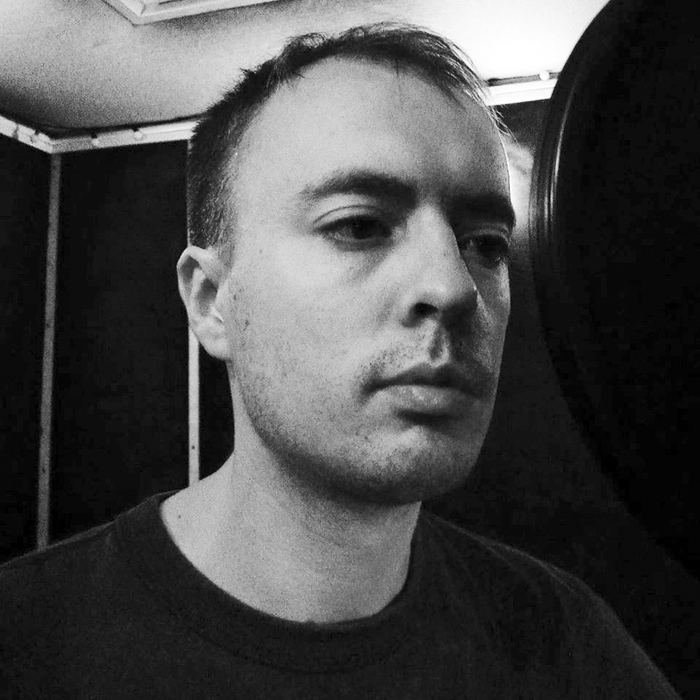«Слово — всего-навсего Бог, но кроме него есть еще куча всего»
СЕАНС — 41/42
Поводом для этого интервью послужил юбилей журнала «Сеанс». Ему исполняется двадцать лет. И делают его ровесники журнала.
Это очень здорово. Вам двадцать лет. Чудесно.
Мы подумали, что вы — Александр Родионов, Борис Хлебников и Николай Хомерики — по возрасту приходитесь нам кем-то вроде старших братьев. Между нами есть некая «братская» связь. Я, например, — одногодок Лени из «Свободного плавания». Каково ваше отношение к поколению, которое идет следом?
Вот вы говорите, что мы — ваши старшие братья, а у меня нет чувства, что вы младше. У тех, кому за двадцать, молодость кончилась очень быстро. Если у меня, дядечки 31-го года, существует взаимопонимание с молодыми людьми, значит, они оказались в одной группе «взрослости» со мной.
Но десять лет — все-таки очень большой промежуток времени.
Вы более цинично все воспринимаете. «Не опьяняться» — это более мудрое отношение. Путч 1991 года для меня был праздником: идешь по городу, и все разрисовано надписями какими-то, которые только что были невозможными, цветы, и люди счастливы… А для вас — уже нет.

Случайно найденная деталь может оказаться остроумным дополнением к тому, что было придумано.
В связи с событиями начала девяностых для нас, скорее, важен мотив катастрофы.
Я не вижу здесь катастрофы. Я вижу уникальный исторический момент, когда мир пошатнулся. Это было чудесное время: в разряд обычных и нейтральных попало огромное количество нестандартных вещей. Не было порядка, можно было свободно входить, скажем, в какое-нибудь правительственное здание. Можно было переходить границы нелегально. Можно было увидеть мир в его освобожденном виде.
Мне было очень страшно, когда ваши ровесники объясняли мне, что раньше было лучше. Это единственное расхождение с вашим поколением.
Почему-то это ощущение свободы никто не берется описывать.
Об этом времени писать трудно. Поэтому на первый план в результате вышли вторичные, внешние вещи, такие, как криминальная буффонада.
А как описывать реальность, чтобы не получилось «буффонады»? Вот, например, современная молодая драматургия ввела в обиход технику «вербатим». Вы могли бы его порекомендовать как до сих пор актуальный драматургический метод?
В «документальной» драматургии автор преследует какие-то странности речи, ее огрехи и ошибки. Но если он ничего не находит, то вынужден работать с тем, что есть. Вербатим — это такое маленькое средство, без которого многие и так прекрасно пишут и будут писать. Но когда автор игрового кино начинает запихивать свою волю в рукав и прислушивается к языку улицы, получаются интересные вещи. Случайно найденная деталь может оказаться остроумным дополнением к тому, что было придумано.
Как в игровом кино можно использовать вербатим? В ваших киносценариях изначальный метод документальной драматургии преображается. Вводится мотив двоемирия — с Гелей в «Сказке про темноту», с милиционером из «Сумасшедшей помощи».
Вербатим — очень конкретная вещь, в кино я ею не пользовался. Что касается двоемирия, то не знаю даже — сюжеты так устроены были.
Исходя из этого, можно ли предположить, что мир в ваших сценариях — не всегда то, чем кажется? Герои выпадают из него.
Ну, с миром известная путаница.
Допустим, берешь интервью, а потом, время спустя, смотришь его и понимаешь, что тот человек, который брал это интервью, — то есть тот ты — своего собеседника не понимает. Хотя, когда ты его слушал, тебе все казалось понятным. На самом же деле ты еще не знал какие-то имена, названия, которые твой собеседник пробормотал. И тут нет никакой фантастики, хотя получается, что по ходу разговора ты попадаешь из одного мира в другой и назад не вернешься.

Или вот приехал ты в первый раз в какой-нибудь город и не знаешь, что такое «комса». У тебя есть какое-то свое представление об этом слове, а потом ты узнаешь, что так называется комсомольский район этого города. И ты уже не вернешься в тот мир, в котором ты этого слова не знал. Мир постоянно превращается.
Но какие-то точки входа и выхода все-таки существуют?
Да, просто не всегда можно их заметить. Пришел человек в краеведческий музей за данными по урожайности XIX века какой-то там земли. И не может их найти. Он ходит и говорит: «Я же помню, у вас была такая вот табличка, она висела в деревянной рамочке на стене — она мне нужна для научных целей». Ему отвечают, что ее никогда не было. Он настаивает: «Как же? Быть может, у вас экспозиция поменялась?» — «У нас одиннадцать лет одна и та же экспозиция». Поди теперь разбери, кто в каком мире оказался.
Слово всего-навсего Бог, но кроме Бога есть еще куча всего.
Вы в этой связи считаете важной проблему некоммуникабельности?
Я — нет, честно говоря. Это может быть приложением к другим жизненным ситуациям. Например, люди недостаточно друг друга любят и не могут объясниться. Или не понимают, что любят друг друга. Но это проблема сердечных чувств, а не коммуникации.
Проблемы коммуникации должны остро чувствовать наши латышские коллеги, писатели-современники, чей язык мало кто понимает вне их страны.
Тем не менее в ваших сценариях момент неумения говорить очень важен. Фактически, некоторые режиссеры зовут вас ради того, чтобы их герои разучились говорить.
У меня есть такое предположение, что коммуникация с упущениями в словах, хромотой конструкции — более здоровая. Гладкая, правильная коммуникация — это черта искусственных ситуаций.

А вы верите в спасительную роль слова?
Мне кажется, любой ответ на такой вопрос будет звучать патетически. Я могу сказать только, что слово может быть способом измерения. Смешно было бы считать, что все на свете — слово. Слово всего-навсего Бог, но кроме Бога есть еще куча всего.
Давайте перейдем от слов и вещей к людям. В ваших фильмах мы видели рабочих с завода, милиционеров. А где же средний класс, богатые?
Знаете, помимо класса есть некое место внутри этого класса. Рабочий — это пример малообеспеченного богатого человека. Его самоощущение часто похоже на самоощущение бизнесмена — хозяина этого рабочего. Быть может, мы не случайно живем в то время, когда рабочий и бизнесмен не ссорятся: только спорят иногда из-за денег. Потому что у них одинаковая ситуация, общая воля к встроенности в общество и работе — в обмен на жизнь. Различается только масштаб, ответственность.
А ситуация человека, который не знает, к какому классу относится, связана чаще с нашими коллегами. И это парадокс: далекие от нас бедняки на самом деле живут гораздо стабильнее, чем мы.
Вам приходилось сталкиваться с тем, что зрители противятся тому, что вы взяли в свои фильмы из повседневной действительности?
У меня плохо развита обратная связь — приходится экзаменовать себя самому. Ну, что тут можно сделать? Не совпало.
Читайте также
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой