Голубой цветок
1. Салаты
«Мы ждем от зрителей нашего фестиваля, смехотворно немногочисленных даже по сравнению с публикой кинотеатров, не говоря уже о телевизионных зрителях, настоящего сотрудничества — серьезной и ответственной совместной работы» (из «Обращения» Фестиваля действительного кино 2007 г). Этот призыв «Кинотеатра.doc» меня сильно насторожил. Я привык, чтобы мной в кино, в том числе и документальном, манипулировали, привык слепо вверяться режиссерской воле, я не привык серьезно и ответственно работать во время сеанса. После — может быть, но не во время. Что имели в виду авторы этого призыва? Когда я посмотрел фильмы, участвовавшие в фестивале, я, кажется, понял, в чем дело.

Москва
Эти фильмы я бы разбил на две группы: требующие усиленной работы во время просмотра и заставляющие задуматься после. Все фильмы первой группы похожи друг на друга как салаты на праздничном столе. Вот какие-то люди едут несколько суток в поезде, пьют и разговаривают («Ковчег» Елены Демидовой); вот какая-то одинокая женщина выдает справки в деканате («Люба» Елены Сидельниковой); вот какие-то старухи в богадельне под руководством сильно накрашенной и хорошо артикулирующей дамы готовятся к конкурсу красоты («Гербарий» Натальи Мещаниновой); вот какие-то хулиганистые, но милые мальчики мотаются то из семьи в интернат, то из интерната в другую семью («Мальчики» Валерии Гай Германики); вот другие мальчики, больные ДЦП, прыгают в бассейн с вышки («Никита и Никита» Марии Тюляевой); вот какой-то дядя собирается зарезать собаку, поит ребенка чифиром, договаривается об убийстве с каким-то родственником («Бес» Александра Малинина); вот какие-то киргизские рабочие скручивают арматуру на стройке, смотрят телевизор, едят, страдают от безденежья («Москва» Бакура Бакурадзе и Дмитрия Мамулии)… В салате-то хоть кусочки еды одинаковы по размеру и равномерно перемешаны. В фильмах же царит невообразимый хаос отрезанных камерой голов, тел, предметов, панорам, разговоров, шумов, планов. Камере тесновато в вагоне — так ее кто-то все время трясет или пихает, камера должна показать диалог — так она носится от одной головы к другой, не поспевая за речью, камере не хватает материала — так она показывает проезжающие машины, ну и так далее. Уследить во всем этом за фабулой фильма, понять, что происходит с героями, да подчас и кто вообще герой (я не из пренебрежения назвал их «какими-то») — для этого воистину требуется серьезная и ответственная, зачастую, увы, бесплодная работа.
Но, может быть, так и задумано авторами? Может, это поток жизни, запечатленный «наивным», искренним взглядом? Не даром же все герои этих фильмов — или совсем простые, или «униженные и оскорбленные»: «Кинотеатр.doc» обратился к судьбе «маленького человека», которая и есть плоть нашей реальности. Недаром в гербе «Кинотеатра.doc» начертано: «Нас интересует действительная жизнь и кино, которое с ней взаимодействует». Но проблема в том, что действительная жизнь вовсе не представляется мне такой хаотичной, бессмысленной, даже если она странна, абсурдна и трагична. В жизни всегда есть единство моего взгляда, слуха, чувства времени. В фильмах же, о которых я пишу, камера, сколько бы ни показывал режиссер своего знакомства с героями (в «Мальчиках», например, взрослые часто обращаются к авторитету «Леры» — Валерии Гай Германики), остается тотально чужой миру, на который она смотрит. Оттого и нужно все время мучительно соображать, что же и с кем происходит в кадре, а если ты еще и, не дай Бог, склонен к анализу, мучаться мыслями вроде: «А зачем мне показали это дерево? А зачем тут герой стоит у автомобиля спиной к зрителю? А зачем тут зум? А зачем мне дали послушать обрывок разговора, оставившего меня совершенно равнодушным?». Кажется, слово найдено — равнодушие. При всей серьезности и ответственности проделанной во время просмотра работы, ни один из перечисленных фильмов не задел ничего в душе. И не заставил ни о чем задуматься. Разве что жаль бабушек в «Гербарии», когда показывают, как их муштруют, а потом разругавшихся запирают на ключ, с тем, чтобы они к приходу затейницы помирились, а не то не будет праздника. Да нет, впрочем, и мальчика с ДЦП, который не может прыгнуть с 10-метровой вышки, тоже жалко. И киргиза, к которому в последних кадрах «Москвы» подсели в трамвае два скина. Но жалко, главным образом, потому, что камера бесстыдно их разглядывает в тяжелую для них минуту. То есть снова ощущение чужеродности камеры в мире людей. Почему же так вышло, что интересующиеся «действительной жизнью» оказались так далеки от нее?
Рискну предположить: для того, чтобы воссоздать на экране действительность, мало походить (или посидеть) среди народа с камерой — неважно какой, кино- или видео-. Вальтер Беньямин довольно точно определил, в чем дело: «Природа киноиллюзии — это природа второй степени; она возникает в результате монтажа. Это значит: на съемочной площадке кинотехника настолько глубоко вторгается в действительность, что ее чистый, освобожденный от чужеродного тела техники вид достижим как результат особой процедуры, а именно съемки с помощью специально установленной камеры и монтажа с другими съемками того же рода. Свободный от техники вид реальности становится здесь наиболее искусственным, а непосредственный взгляд на действительность — голубым цветком в стране техники». Мне скажут: да о каком кино это писалось и когда? И не стремимся мы к киноиллюзии, мы стремимся к правде! Я отвечу: домашнее видео и компьютерный монтаж не принесли ничего нового. Любой отснятый и показанный материал, будь это хоть камера слежения в банковском зале — не реальность, а ее иллюзия. Любое снимаемое пространство — съемочная площадка. Чем сложнее техника, тем глубже она вторгается в действительность, и если вверяться только камере и собственному нравственному чувству, камера страшно деформирует действительность. Она режет мир на несообразные куски и никак не соединяет их. В этом салате нет даже майонеза. Чтобы избежать такого эффекта, тем более в документальном фильме, призванном изображать реальность, «как она есть», нужен гениальный или хотя бы вдохновенный глаз режиссера (оператора) и кропотливейшая монтажная работа. Одних добрых намерений и камеры категорически не хватает.
Однако вместо того, чтобы критиковать, следовало бы беспристрастно взглянуть на эту эстетику, на ее происхождение. Появление «Кинотеатра.doc» было, конечно, бунтом. Против чего? Против прилизанности, стильности, условности, развлекательности, бесчувственности, неестественности. Против всего, что можно объединить в понятии видеоклип. Но видеоклип — жанр, собственно, не кинематографический. Просто влияние его эстетики распространилось на кино, и, прежде всего, на игровое, загнав документалистику, которую труднее пригладить, на задворки, т.е. в телевидение. Примеры такого кино можно умножать до бесконечности, от всяких там якобы сказочных «Властелинов колец» до якобы спонтанной «Эйфории». Засилье условности и стиля, ходульность и бесчувственность находили в классицизме и европейские романтики. Они так же хотели сломать систему жанров, так же стремились к непричесанной правде о мире и человеке. Но романтизм породил поэтику еще в большей степени нормативную, чем классицизм. То, что было в классицизме каноном (талантливо или бездарно используемым художниками), очень быстро стало в романтизме штампом, общим местом. Опасения организаторов фестиваля 2007 года кажутся мне небезосновательными: «Для «Кинотеатра.doc» быстро настали трудные времена. «Наши фильмы» еще не стали мейнстримом, но превратились в официально признанный андерграунд, этакую кисленькую добавку к пресноватому главному блюду. Очень сложно — оставаться в поиске именно тогда, когда твой еще не до конца оформившийся стиль моментально объявляется брендом». Опасность бренда мне видится не внешняя, а внутренняя. Бренд — это и есть штамп. Готовая форма. А современная техника предоставляет возможности изготовить кинопродукт довольно споро и вроде бы сносно. Все фильмы, о которых я говорил, действительно похожи друг на друга. Их объединяет нарочитая (или по неумению) техническая небрежность, непродуманность композиции — от отдельного кадра до всей картины в целом, вялый операторский-режиссерский взгляд, «посторонняя» камера, ничем не смягченный эффект подглядывания, наивность в сочетании с холодностью.

Семена
2. Монолог
Теперь о второй группе фильмов, которые совсем не похожи на салаты, а скорее, каждый из них — небольшой пиршественный стол.
Перед камерой сидят два пьяных мужика, и один из них рассказывает, как везли тяжеленный трансформатор и уронили его. И он остался на долгие месяцы в вагончике — сторожить трансформатор, потому как в нем меди — посчитай сам, если по полтора доллара за килограмм. Камера только один раз меняет угол съемки. Второй мужик — тоже недвижен. Лишь один раз он очнется, для того чтобы возмутиться: его сосед налил и почему-то не пьет, а болтает. То и дело рассказ прерывается титрами: «прошло две недели», «8 марта — международный женский день» и т.д. Оторваться невозможно. Это фильм Павла Костомарова и Антуана Каттена «Трансформатор» (2003).
Здесь пройден первый шаг к подлинному кино: автор нашел фактуру. Пройден и второй шаг: режиссер понял, что такого самородка нужно снимать просто, одним планом, чуть-чуть снизу, чтобы придать ему величия. Это уже монтаж — точнее минус-монтаж. Это безусловно прием, и единственно правильный здесь. И, наконец, собственно содержание, восприятию которого ничто не мешает: уникальная речь героя. Вся она пронизана чувством изумления перед непознанными силами мира и своей малостью. Это не трагическое вопрошание, а немного ленивое, виннипуховское, беззлобное недоумение: как же оно так получается? И полная готовность принять всю эту нескладицу и жить в ней, потому что вроде бы и у самого «опилки в голове»: «Надо же кому-нибудь подчиняться», — объясняет герой. По обаянию смеха эту маленькую радость можно сравнить с лучшими рассказами Шукшина и Василия Белова — или лимериками Эдварда Лира.
Насчет этого фильма один зритель сказал мне: «Это не кино. Это обыкновенный телерепортаж. Всякий может так снять». Ну что ж, тут как с Колумбовым яйцом: все могли, а сделал только один! И еще: я намеренно сужу фильмы «Кинотеатра.doc» именно как фильмы, не допуская и мысли о телерепортажах. И прежде всего потому, что уважаю волю их создателей: они-то считают, что их творения — кино. Так давайте их и рассматривать как кино — хорошее или плохое. Больше того, в случае с «Кинотеатром.doc» я не вижу особенных причин разделять критерии оценки документального и игрового кино. И то, и другое ставит своей целью воздействие на эмоции зрителя, заражение его каким-то чувством, а затем и мыслью.
«Трансформатор» — случай уникальный: здесь нет разделения на монолог внешний и внутренний: герой только и делает, что говорит в камеру. В большинстве «монологических» фильмов режиссерам пришлось воспользоваться внутренним монологом: камера снимает жизнь героя, а за кадром герой сам о ней рассказывает. Удивительно, как этот несложный прием, изобретенный чуть ли не вместе со звуковым кино, помогает выстроить фильм, скрепить его действительность, без спешки объяснить все происходящее зрителю, дать ему сосредоточиться на судьбе героев и откликнуться на нее.
«Кинотеатр.doc» представил нам целый спектр монологических фильмов, от непритязательных, но достойных, до блестящих. Среди первых я бы выделил «Ради любви» Ильяса Авада. Речь здесь идет о гастарбайтере-одиночке, скупающем в Питере цветные металлы. Он живет безвылазно в самых спартанских условиях, в каморке за решеткой, потому что оградить его от бандитов некому. Там же и принимает сырье. Думает о далеком доме, о семье, ради которых он принял на себя этот постриг. Благодаря внутреннему монологу зрителю удается в деталях познакомиться с его странным, каким-то кладбищенским бытом, и соприкоснуться с его внутренним миром. Фильм оставляет чувство замечательной душевной теплоты: камера здесь не посторонний соглядатай, а близкий друг героя. Разве что патетики можно было поубавить. Тут хочется большей строгости, как, например, в «Мирной жизни» тех же Павла Костомарова и Антуана Каттена.
Вершина «монологических» фильмов — «Семена» Войцеха Касперски. Но о них — речь ниже, потому что почти шедевр получился там не только благодаря монологу. Монолог главного героя там — лишь обязательное условие ясности фильма, изображающего довольно сложную коллизию.
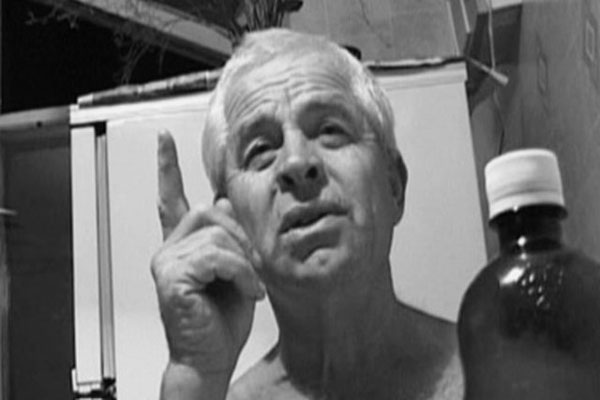
Sedoy
3. Камера
На экране — лицо спящего младенца. Только почему-то губы накрашены. Проснувшись, младенец оказывается опухшей со сна, растрепанной девочкой-подростком. Девочка причесывается перед зеркалом, делает себе челку «как у Савичевой». Готовит еду, кормит с ложки немощную бабку. За это время мы уже успеваем приглядеться и увидеть миловидную, но обыкновенную девушку. Она идет на хлебозавод. Производственный процесс, подробно и толково показанный, всегда интересен на экране. К концу рабочего дня мы успеваем забыть о девушке. Но тут мы снова видим ее — в продовольственной лавке, отсчитывающей металлические деньги. Мы видим, что эта усталая после работы почти нищая женщина — красавица. Красавица таинственная, никем не разгаданная, никому (кроме камеры и ближайшей подруги) не рассказавшая о своей любви. И красавицей она остается до конца фильма — сцены концерта Юлии Савичевой. Она почти светится в сумерках, в бликах зажигалок, в танцующей на площади толпе под «Тихий полет — это легко». Фильм Павла Фаттахутдинова «Лиза». Мы почти забыли, что такое в кино Пигмалионова влюбленность: влюбленность человека с камерой в героиню. Мы забыли этот сумасшедший влюбленный взгляд, способный вслед за героиней преобразить действительность, дать тусклому и разрозненному миру право на существование. Если «Кинотеатр.doc» как-то причастен к возрождению такого взгляда, значит все движение не напрасно: оно действительно возродило старую оптику.
Да, в этом фильме тоже есть монолог Лизы, сообщающий ясность и человечность повествованию. Но не он — главное. Главное — камера, теперь уже не дружественная, а влюбленная. И здесь художественное неотделимо от нравственного. Потому что Лиза светится красотой добра и смирения. Как и всякий влюбленный, камера, видя всю мерзость мира, воспринимает его оптимистически. И как всякий влюбленный, камера здесь обладает особым чувством интуиции и такта по отношению к своему объекту. Вот еще одно средство слепить распадающуюся действительность. Может быть, не идеальное, слишком уж субъективное: в картине все же есть длинноты, пустоватые, неумелые планы, но это простительно.

Мальчики
4. Аура
Фильм открывается сценой у могилы Лизиной матери. Всё стремится вверх: женщина в длинном черном платье на фотографии, тонкие деревья, голоса птиц, будто даже солнечные лучи. Потом — вдруг солнце, прорывающееся сквозь дым, как на войне. Место действия «Лизы» — городок Карабаш за Уралом. Огромный медеплавильный завод. Горы шлака и вздымающиеся над ними непомерно высокие трубы. Земля покрыта пеплом — как в «Последнем дне Помпеи». В одной из сцен героиня карабкается на целую гору сероватого праха. И смотрит на деревья далеко внизу, водохранилище, бараки города, заводские корпуса. А надо всем — немыслимо-голубое небо с мчащимися облаками — и беспрерывный гул завода. Этот фон почти всегда чувствуется в фильме. Он создает ощущение тоски — тоски униженных человеком земли и воздуха по чистоте и красоте. Тоски героини по спокойствию, любви, счастью. У героини появляется аура — рамка, фон, помогающий понять ее и создать общее настроение фильма. В этом «Лиза» перекликается с дилогией Николая Досталя «Облако-рай» и «Коля-Перекати-поле». Ни в одном из «салатных» фильмов ауры я не заметил. Люди есть, среда есть, а мира — нет.
Если в «Лизе» аура показана довольно просто и наивно, то в «Семенах» все тоньше и сложнее. Семья живет на краю алтайской деревни. Мы еще не знаем, что с этими людьми не так, но уже начинаем о чем-то догадываться: как пламенеют окружающие горы на закате, как сереет картошка в огороде! … Смешно? Когда смотришь, не до смеху. Трава, всходы на огороде, кусты, деревья, а вслед за ними — и земля, и изба — тонут в каком-то странном, тревожащем, чуть грязноватом оттенке. Неслучайно режиссер поляк. Этот оттенок как будто особенно знаком польскому и белорусскому взгляду 20 века. Сопоставьте Анджея Вайду и Василя Быкова. Это цвет беспокойной приниженности, предчувствия большой беды. Не катастрофы, не несчастья (они приходят и уходят), не трагедии (трагедия разрешается катарсисом), а именно беды, той самой, что если пришла, то отворяй ворота. Постепенно по ходу фильма (смонтированного очень деликатно, короткими отрезками секунд по 10, так что швов не видно) мы понимаем, почему эти люди живут отдельно от других: они не хотят выставлять свое горе напоказ. Камера тут крайне осторожна, ни в одну из сцен она не влезает с холодностью постороннего, но ни разу и не пытается установить панибратские отношения с героем — главой семьи. Тоже постепенно, исподволь, узнаем мы, что младшая девочка в семье родилась эпилептиком, что мать наполовину в параличе — после тех, последних родов, и к тому же, пьет. Что отец предчувствовал беду и уговаривал ее сделать аборт, но не уговорил. Мы видим, как отец натирает сероватую картошку, нарезает зеленоватую капусту, слышим его немногословный, отрывочный монолог о том, что постигло их семью.
Жена стала агрессивной, но он ни разу не повышает голоса ни на нее, ни на дочку: то ли потому что привык (хотя кто к таким крикам может привыкнуть?), то ли потому что убежден в собственной вине, плоды которой он пожинает — потому фильм и назван «Семена» — семена зла, точнее, семена беды. А между тем, жизнь как-то продолжается. Дети играют среди брошенных в траве бетонных труб, окликают друг друга в гулкой тьме (что не может не напомнить о «Канале» Вайды), младшая девочка идет в школу, правда, минует ее и возвращается сразу домой — мы можем представить, как к ней относятся товарищи и учителя. И только в последних кадрах фильма выясняется, что одна из дочерей покончила с собой. Фильм потрясает тем, как постепенно, будто невзначай, из ауры вырисовывается картина страшной беды и мужественного несения своего креста. В «Семенах» на экране воссоздана не только «действительность», но и правда о человеке. В ход пошло все: и монолог, и монтаж, и деликатность камеры, — но в первую очередь аура:
Как возникает пыль из ничего,
И нет ее, и вдруг с какой-то целью
Угрюмым утром забивает щели,
И значит, превратилась в вещество,
Так и они возникли пред тобою…Рильке
5. Недоумение
Из всех фильмов, представленных на фестивале 2007 года, самое ошеломляющее впечатление производит «Гражданское состояние» Алины Рудницкой. Человек просто походил с камерой по всем отделам ЗАГСа: развод, брак, выдача свидетельств, похороны — и получилась, не побоюсь сказать, великая картина. Ни одного из перечисленных приемов нет, а мечта «Кинотеатра.doc», тот самый «непосредственный взгляд на действительность» — «голубой цветок в стране техники» найден безошибочно. Много обычных людей — никакой особенной фактуры. Только разговоры в кадре — никакого скрепляющего монолога. Камера везде и повсюду — никакой влюбленности или деликатности. Стены казенного учреждения и Стрелка Васильевского острова, где молодожены бьют бутылки из-под шампанского — никакой ауры. Никакого сопереживания героям. Никакой нравственной идеи, никакой гражданской идеи, никакой философской идеи, никакого эстетского любования. Что же произошло? Почему одно только сравнение лиц жениха и невесты, один только жест жениха, украдкой вытирающего губы после поцелуя, один только диалог разводящихся супругов, один только усталый обмен репликами между работницами ЗАГСа — создают шедевр? Или шедевр создает монтаж, исключающий из каждой конкретной ситуации абсолютно все лишнее — подчистую? Или причина в потрясающей зоркости режиссера-оператора, сумевшего увидеть везде нужный ракурс, нужную степень приближения камеры и нужный угол съемки — чтобы опять же выделить в ситуации самое главное, харАктерное? Я недоумеваю. После фильма остаешься с чувством радости. За что? За род человеческий, от рождения до смерти, так беззлобно и иронично показанный фильме? За природу, подарившую всем нам такой гениальный взгляд?
А уж вопрос о том, появились ли такие фильмы благодаря новой эстетике «Кинотеатра.doc» или вопреки ей, я оставлю на размышление зрителям и читателям.
Уважаемые комментаторы! Мы просим вас подписываться полным именем и фамилией. Мы надеемся, что у нас получится настоящая он-лайн конференция с участием наших читателей, а также зрителей и участников Кинотеатр.doc.


