Сквозь тела, теории и связный нарратив. Рождение киночувственности — «Опыт киноглаза» Дарины Поликарповой
Зрительские переживания кинотеоретика — предмет исследования дебютной книги Дарины Поликарповой «Опыт киноглаза». Теория кино нередко представляется непроходимым лесом, который безопаснее огибать при любой возможности. Ирина Марголина утверждает, что Дарине удалось превратить «научное» в «игровое» и оживить статичное пространство концепций. Об односторонних (или не совсем) отношениях профессионального зрителя с фильмами — в рецензии.
Фильм Эбрахима Голестана «Кирпич и зеркало» я уже видела, правда, ничего, кроме первой сцены, вспомнить не смогла. Не удивительно. Незнакомка в хиджабе оставляет в такси младенца, а потом таксист на протяжении следующих суток решает, что с ним делать — неспешное повествование время от времени словно бы забывает, куда оно вообще нас ведет. Одно дело, торможение фабулы — живописные проезды, ощупывание мира, бытописательство, в конце концов. Последнее тут, пожалуй, еще можно отыскать, но куда больше происходящее на экране напоминает простое движение, за которым камера следит или следует, как завороженная. Движение улицы или движение декора на ковре. Конечно, рано или поздно в кадр попадают и участники сцены, но они там уже глубоко не обязательны. Мы с ними оказываемся совершенно бессильны перед событием чистого киновзгляда.


С этого равнодушного к зрителю кино и начинает свою книгу «Опыт киноглаза» Дарина Поликарпова. Так во введении и пишет (и я бессовестно краду у нее этот прием):
«Всякий раз, располагаясь перед экраном за просмотром фильмов Джеймса Беннинга, я чувствую, как это кино совершенно равнодушно к моему присутствию»
И хотя передо мной безусловное научное исследование, которое со всей смелостью и весом научных отсылок берется переосмыслить саму природу кино, у меня такое ощущение, что мы с Дариной — подруги, и на следующих двухстах двадцати страницах она делится со мной сокровенными переживаниями. Зрительскими, человеческими, профессиональными.
Как смотреть (Джеймса Беннинга)?
Близость эта — не совпадение. Я знаю про равнодушное движение на экране вовсе не потому, что на днях пересмотрела Голестана. Все дело в том, пишет Дарина, что кино обладает собственной автономией, субъектной чувственностью, которую легко можно отыскать и в экспериментальных, и в «нормативных», т. е. созданных для удовольствия зрителей, его образцах. И я верю ей. Опять же, не из-за Голестана. Просто, в отличие от «Кирпича и зеркала» или «Рура» Беннинга, о котором пишет Дарина, ее текст совсем ко мне не равнодушен.
Cтремление освободиться от контекста — ключевое для большей части работы
Глава за главой, она доверительно разворачивает передо мной таинства кинотеории, и я ощущаю торжественность происходящего. Как будто бы и тут меня допускают к личным переживаниям, к моментам, когда сама Дарина ощущала близость прозрения. И эта память открытия, память рождения чувства, а вслед за ним и смысла, становится ключевым инструментом исследования, в сердце которого — способность вновь ощутить волнение. Испытать всю странность, инаковость этого нового устройства и явления. Кино.

Позиция Дарины и вправду во многом схожа с позицией авторов ранней кинотеории, которых, цитирую, «принципиальная новизна технологии не вынуждала вписывать ее в уже существующий контекст» и позволяла «чувствовать себя очень свободно в форме и содержании своих высказываний». В отличие от ранних теоретиков, уличить Дарину в бессистемности не получится, зато стремление освободиться от контекста — ключевое для большей части работы. Значит, будем отсекать лишнее. Этим и займется первый раздел, в котором мы безрадостно будем наблюдать, как уже в 1911 кино было окрещенно Ричотто Канудо шестым искусством (как оно стало седьмым — читайте в книге, сноска на странице 23) и стало постепенно обзаводиться всеми теми теоретическими привилегиями, что прилагались к его новому статусу, а заодно стирали всю его специфику и новизну.
За последующие почти сто лет — и две главы — становится понятно, что сдвинуться куда-то в сторону от фигуры создателя фильма или его зрителя очень непросто. Даже пройдя жернова Большой теории и обретя защитников в лице посттеоретиков, кино оставалось в зависимой позиции, где
«зритель продолжал восприниматься как дешифровщик фильма, в который зашита информация, нуждающаяся в прочтении и интерпретации»
И хотя к финалу раздела Дарина даже приводит двух своих единомышленников — Дэниела Фрэмптона и Вивиан Собчак, — они здесь оказываются нужны лишь для того, чтобы и их попытки реабилитировать самостоятельность кино (как разума или тела) признать неуспешными: кино все еще сравнивается с человеком, а значит и мы остаемся на малополезной антропоморфичной территории.
Теперь, когда лишнее отсечено, и мы знаем, как не стоит обращаться с кино, нам дана обратная точка (нас предупреждали, что придется подождать до второго раздела). Здесь Дарина поясняет и саму кинотеорию 1920-х, и ее скромный, но весомый вклад в дело эмансипации кино — в первую очередь на примерах текстов Дзиги Вертова и Жана Эпштейна. Здесь же подробно описано, что такое структурное и расширенное кино и как они соотносятся с понятием кино как субъекта.
Я и не вспомню, когда в последний раз научное так лихо становилось игровым
Наконец, мы разбираемся и с самим понятием чувственности: что это такое с точки зрения философии и как кино может ею обладать. Ближе к финалу второго раздела, в подглавке «Кино как агнозийный субъект», Дарина использует запрещенный прием и сама сравнивает чувствующее кино с человеком. Точнее — с больным человеком. Ведь только тот, у кого утрачена связность между чувственностью и рассудком — как пишет Мерло-Понти, — и может испытать чистый чувственный опыт, который хотя бы отчасти применим и к чувственности кино.
Одинокий голос переводчика — О феномене «авторского» киноперевода
В последнем, третьем разделе, нас ожидает самое сложное: попытки, собственно, эту чувственность описать. Как смотрит и как слышит кино, что такое с точки зрения киночувственности монтаж, и в каких еще кинематографических приемах она проявляется. Приходится разбираться даже с вопросом непрерывного движения, противопоставленного статичности каждого отдельного «кадрика» (неподвижного снимка), на случай, если кто затосковал по Бергсону. Заранее расписавшись в невозможности постижения этой новой природы кино, его автономии, все же мы вплотную подходим к последней.
Седьмая (и последняя) глава — особенная и моя любимая. Дело тут и в том, что снова она начинается с личного опыта, и в ее интенции — «Вместо заключения: назад к человеческому». В ней Дарина выпрыгивает из 1920-х и безо всякой теоретической подстраховки приземляется прямиком в хоррор 2000-х. Разбирается с несовпадением взгляда человеческого и нечеловеческого агента в «Скрытое» Ханеке, рассказывает про «Нет» Джордана Пила, а потом, обрисовав историю монструозного взгляда в хорроре, оборачивается на кинематограф Харуна Фароки.
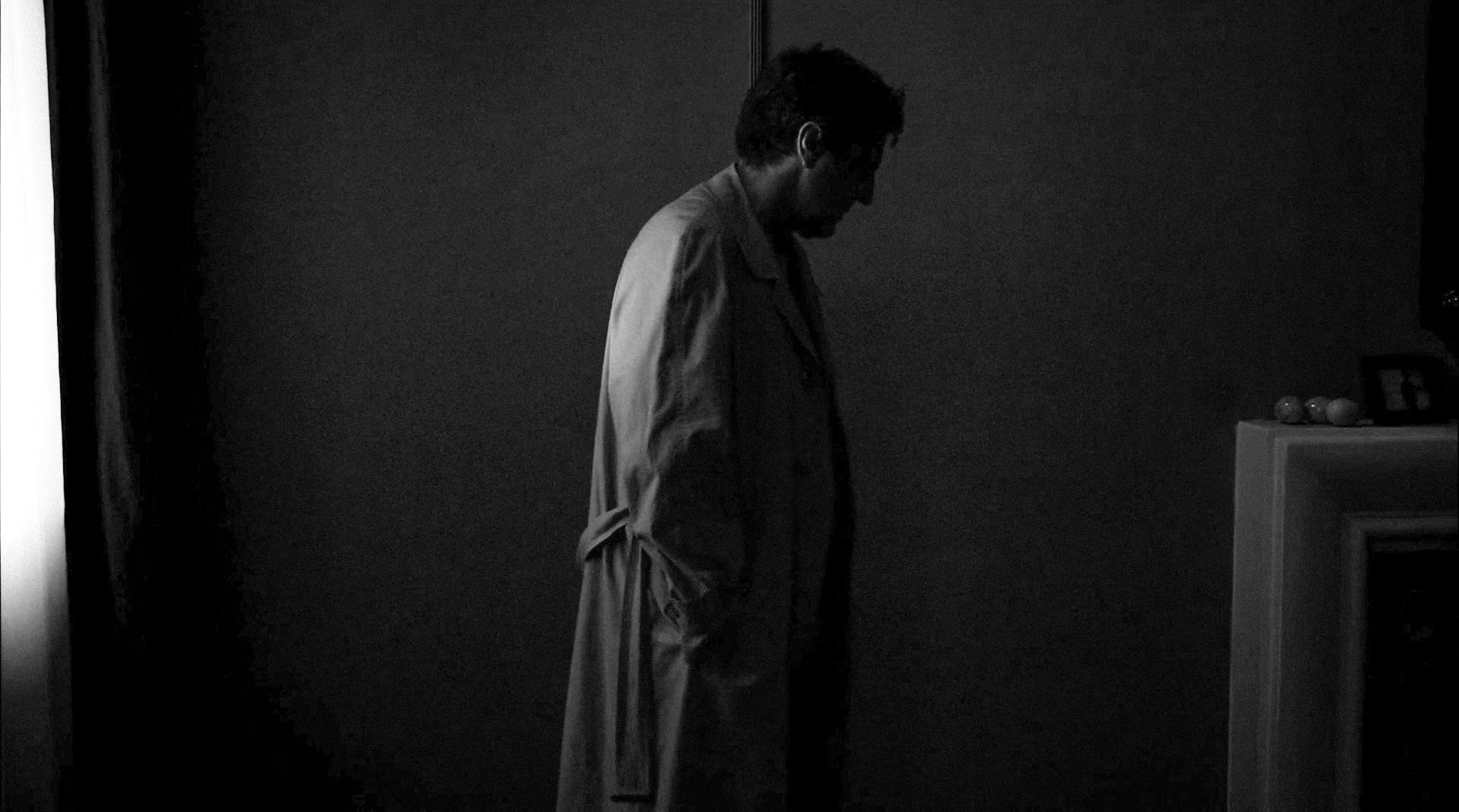
Внезапно оказывается, что и здесь, и сейчас можно видеть кино по-другому (или как Другого). С еще большим волнением, страхом даже, но главное — все той же чуткостью, что и сто лет назад. На примерах жанрового и политического кино с наибольшей отчетливостью проступают все те качества, что приписывал кино еще Вертов. На этом новом витке книга заканчивается.
Долгий путь длиной в два века философской мысли оказывается жутко увлекательным, ведь Дарина заботливо расставляет крючки, вставные новеллы в детективном жанре и даже предлагает читателю, прежде чем тот перейдет к следующей главе, заключить определенный договор. Я и не вспомню, когда в последний раз научное так лихо становилось игровым или расцветало поэзией. Последняя обычно таится в вопросах. Вот один из них, рожденный из вполне тривиального случая, когда Фрэнк Капра использовал для своего агитационного фильма кадры из «Триумфа воли» Лени Рифеншталь:
«Какому фильму и, соответственно, какому автору после подобного перемещения принадлежат теперь изображения Гитлера, если мы захотим дать им прописку, — «Триумфу воли» или «Прелюдии к войне»? И могут ли они, вслед за этим перемещением, появиться в составе новых и новых лент, совсем утратив связь с местом и целью своего возникновения?»
Я помню схожее вопрошание по отношению к цвету. Мэттью Пестана, во время своего выступления на конференции, рассказывал про пленки с документальными записями, которые хранились в далеко не идеальных условиях, были оцифрованы и показаны со всеми своими обретенными следами не только химической, но и цветовой деградации. И вот, лектор поэтически вопрошал: кто автор этих цветов и этого кино?
Кажется, это только начало, и толща контекстов пройдена и счищена лишь наполовину
Кадры утрачивают прописку, оригинал (а вместе с ним и авторство) теряется в обилии форматов, п (р)оявляются призраки на камерах наблюдения у Фароки или в современных хоррорах. Фильм пересобирается и распадается на отдельные кадры. И рядом с этим всем толпятся в нетерпении Вертов, Эпштейн, Беньямин, Фрэмптон, Собчак, Мерло-Понти, Шопенгауэр, Кант и снова Вертов… И в этом полете мысли, который без усилий подхватывает читателя, у последнего неминуемо возникают встречные вопросы.
Почему Люс Иригарей, но не Донна Харауэй? Почему постструктуралисты, но не постгуманисты? Почему режиссер
«лишается своего привилегированного положения и превращается в часть механизма, столь же функциональную, сколь линзы или штатив»
но не превращается в киборга? И можно ли сегодня, когда человеческое тело соприкасается с технологическим (смартфон, смарт-вотч, беспроводные наушники) на ежедневной основе, все еще считать его абсолютно непригодным для того, чтобы хоть отдаленно напоминать тело кино? Наконец, мой собственный взгляд через линзы очков и отсутствие у меня бинокулярного зрения — делают ли они и меня тоже агнозийным субъектом, приближают ли к киночувственности? А если я надену Vision Pro?
В обилии примеров — фильмов и текстов — разных лет этот эксперимент с представлением и описанием киночувственности удается сполна, но заданная инерция упрямо требует продолжения: кажется, это только начало, и толща контекстов пройдена и счищена лишь наполовину. Как бы там ни было, сложно по прочтении избавиться от ощущения торжества. Киночувственность переживает свое рождение. Сквозь тела, теории и связный нарратив. Она здесь, на страницах книги, непостижимая и равнодушная к нашему с вами присутствию.
Читайте также
-
«Перед лицом времени» — Берлин в фотографиях
-
«А теперь идите в кино и сравните» — Рецензия на книгу Сергея Февралева
-
«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова
-
Ковид, любовь и кинопленка — «Царапины и глитчи. О сохранении и демонстрации кино в начале XXI века»
-
Кино. Культура. Жук времени







