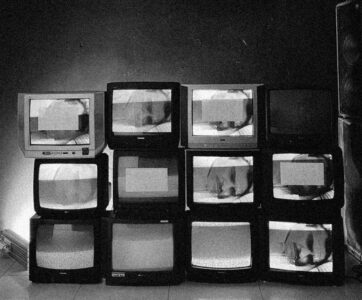Родительское собрание
Молчат: Аглая Чечот, Мария Секацкая, Анна Ковалова
Родители — безумцы и придурки
Иван Чечот: Родительское собрание, так? А вы значит — классный руководитель?
Любовь Аркус: Нет, я такой же участник разговора. Пока мы делали номер «Ровесники», стала заметна одна тенденция, с которой я и хочу начать нашу беседу. Мы получили семь эссе, и все они назывались словом «страх». В них описывались самые разные страхи — от страхов перед маньяками до страха, что родители потеряют работу. Конечно, страх — это неотъемлемая часть любого детства. Но меня этот факт поразил. Что мы такого делали со своими детьми, что им страшно?
Иван Чечот: Надеюсь, это не моя дочь написала такой текст?
Любовь Аркус: Нет. И не твоя, Александр.
Иван Чечот: Ну, в голову сразу приходят банальные мысли политико-социального характера, и высказывать их совершенно не хочется. Всем они давно известны: наши родители не могли потерять работу, если только они не были творцами или диссидентами. А в девяностые, да и теперь, действительно возможно все. Я не уверен, что эти тексты прислали дети тех, кто был в кочегарках или писал нетленку. Скорее всего, это дети самых обыкновенных конформных людей, которые, с одной стороны, не были героями, а с другой, не занимали никаких командных высот.
А не находятся ли эти дети под влиянием некоего клише? О том, что страх — это благородная и интересная тема? Дурачки не боятся, а мы вот чувствуем, что в семье, в мире что-то не в порядке, и сигнализируем об этом. А сигнализировать такие вещи — вроде как функция молодежи. Кроме того, они знают, что у родителей было счастливое детство, поэтому, уж если им чем и отличаться от нас — то причастностью к страху. Это дети, которые уже в детстве слышали имя Серена Кьеркегора, видели фильмы ужасов. То есть, они определенным образом были закодированы на страх. Вот и автор текста «Настоящее», который мы только что прочитали, тоже уже знает, что такое «инфантильный», и немножко под инфантильного играет. Его текст ориентирован на какую-то свежесть, глаза в разные стороны, и он слишком лиричен.
Любовь Аркус: Вы лирике не доверяете?
Иван Чечот: Доверяю. Но бывает лирика от зрелости, а бывает лирика от инфантильности, от юности. В общем, есть что-то искусственное в этих страхах детей девяностых.
Александр Секацкий: Историческое чувство страха целого поколения может быть связано с тем, что в условиях перестройки взрослые оказались детьми. Они думали, что неудачи приватизации Анатолия Чубайса — это не главное. Они по-прежнему верили, что все восстановится, и продолжали ассоциировать себя с прежними идеалами. Все их целесообразные умения — в том числе, навыки лицемерия по отношению к существующей власти — оказались совершенно ненужными, поэтому они не знали, чему учить. Стандартная схема, когда сыновья и дочери должны выбивать с социальных высот своих родителей, чтобы занять их место, обрушилась. Место отцов стало неважным. Дети раньше родителей поняли, как устроен этот мир, основанный на жестоком цинизме криминальной власти. И ощутили себя более искушенными и взрослыми, чем их отцы. Родители — безумцы и придурки, которые живут в каких-то своих оазисах, не имеющих отношения к действительности. Конечно, дети, не очень понимают, что к чему. Но их родители — не понимают вообще ничего.
Иван Чечот: И поэтому у них нет страха.
Александр Секацкий: У них нет страха, но у них есть безумие.
Иван Чечот: То есть, они безумные и бесстрашные! (смех)

Александр Секацкий
Александр Секацкий: Эту ситуацию можно сравнить с той, что произошла
в семидесятые годы в США и частично в Европе. Поколение хиппи сменилось поколением яппи, хищными неоконсерваторами. Но там была огромная подушка социальной безопасности. Поэтому отчасти это было игрой. Мир для яппи все равно оставался слегка плюшевым.
В России девяностых было по-другому — мир был чудовищным. Стоял вопрос предельных ставок — лишаешься квартиры, накоплений, всего смысла жизни. Востребованными оказались только некоторые блатные навыки. Благо, ими обладало полстраны.
Иван Чечот: То есть, мы тоже обладали блатными навыками? По чуть-чуть?
Александр Секацкий: Да, нам пришлось вытащить из тайников все свои блатные навыки и на них выживать.
Иван Чечот: Да, собственно на них мы и выжили! (смех) Может, мы и не стали миллионерами, но мы и не собирались.
Александр Секацкий: Традиционный страх такой — родительская инстанция может наказывать. А здесь страх противоположный — что никого не будут наказывать, потому что родительские принципы повисли в воздухе.
Иван Чечот: Да, не страшно, когда враг перед тобой — например, отец алкоголик. Он может распоясаться и будет драка — но ты знаешь, что в таких ситуациях делать — вязать его мокрой тряпкой.
Сейчас есть страх перед отсутствием реакции на твое существование. Ты существуешь, а никакой реакции на это нет. Ни со стороны общества, ни со стороны власти, ни даже со стороны родителей. Ну, существуешь ты каким-то автоматическим путем, родители тебя не направляют, не ограничивают ни в чем, все тебе разрешают.
Иди направо, или налево. Хочешь замуж? Замуж. Любовницу? Пожалуйста. Родители говорят: «Родись, живи, расти, существуй. Мы как-то выживаем. И ты выживай. Идеи у нас нет, принципов нет, настоящих, горячих целей нет. Чего ты жалуешься, что у тебя их тоже нет? Такая вот теперь жизнь».
Двадцать лет — это ведь самое начало. А начало должно быть не лишено некоторого драматизма. А драматизма нет, потому что нет сопротивления.
Девяностые, восьмидесятые, семидесятые.
Александр Секацкий: Есть ощущение, что это другое поколение?
Иван Чечот: У них-то? Да, думаю есть. Видимо, это работает только с их стороны. Генеральная мысль такая: я не знаю, что такое «поколение». И у меня есть подозрение, что «поколения» придумываются историками для того, чтобы получалась история. Конструируется какое-то специальное ментальное различие. Хотя ведь, когда мы внутрь себя смотрим, мы же все еще видим себя юными?! Не совсем ведь еще утратили? Выдохлось то, что называлось «историей идеи», вплоть до гегелевского понимания — когда есть какой-то большой сюжет. А когда сюжета нет, чем его заменить? «Историей поколений». В культуре за последнее время происходит не так много интересного, рельефного и существенного. Давно не понятно, что такое «новое», а что такое «старое». Что «свежее», а что нет. И так как эти различия рассосались, критика, история искусств, все время конструирует эти десятилетия, чтобы драматизировать ситуацию. Вот «девяностые», вот «нулевые»…И с нулевыми вообще будет очень сложно. До них хотя бы перестройка была, бандитизм, потом, очень кстати, одиннадцатое сентября.
А до девяностых были восьмидесятые, семидесятые, шестидесятые, пятидесятые -— и так до 1789 года. А до
Любовь Аркус: Но ведь они же есть, эти девяностые, восьмидесятые, семидесятые?

Любовь Аркус
Александр Секацкий: Если мы все опрокидываем на всемирную европейскую историю, нам очень трудно найти основания для достоверности. История СССР дает нам возможность
показать, что в первый период коммуны и в ранний период советской империи, с
Иван Чечот: А потом этот советский человек вырождается в «Осенний марафон», а потом в нем пробуждается «браток», благодаря которому мы и выжили… Но если мы уже называем молодых «поколением девяностых», привязываем их к этой поколенческой логике, то для чего мы это делаем? Для того, чтобы состарить, историзировать раньше времени? Я считаю, что это еще не поколение. Они еще только входят в него. Я и про себя не знаю, к какому поколению я отношусь. Видимо, к семидесятникам. Но я из профессорской семьи, и не знаю, что происходило с другими социальными слоями. Наверное, из семидесятников происходит много технократов? Подозреваю, что и бюрократов большое количество.
Девиз у меня и моих университетских друзей был такой — мы были аполитичны. Зачем все время думать о Брежневе и геронтократии, махать кулаками? Да пошли они в жопу, эти старики! Конечно, противно, что они на экране, но тратить жизнь на то, чтобы с ними бороться — неужели, больше нечего делать? Мы еще «Божественной комедии» не читали, не смотрели такой-то фильм. Нам было куда стремиться, помимо политики. Это был эскапизм в сферу профессии. Потом наши отцы — классические шестидесятники, веровавшие в искусство и привившие к нему любовь, увидели, что ждать социальной справедливости от властей или мирового духа бесполезно и нужно устраиваться. Кстати, у меня был момент резкого протеста против такого «обустраивания». Как-то я был на праздновании пятидесятилетия своего отца. Там было много известных адвокатов. И моему папе подарили его портрет, выполненный настоящим художником и вставленный в золотую раму. Я сильно выпил и был возмущен этим портретом, который водрузили над камином в папиной квартире. И я взял бутылку водки и запустил ее в этот портрет. Был большой скандал.
Любовь Аркус: И вы говорите, что нет поколений!
Иван Чечот: Ну, может, эта способность на гневные поступки. Но тут всегда нужно различать, сколько в этом поступке от поколения, и сколько от семейной традиции. Нужно быть очень осторожным.
Чудовища должны быть отдельно
Иван Чечот: Вообще есть две оптики. Есть новоевропейская: молодые интереснее, они несут что-то новое, они умнее и, конечно, мы — старшие — выглядим дураками. Есть другая оптика, из которой ясно, что мы — дураки по сравнению с дедами, деды — дураки по сравнению с прадедами, а уж эти молодые ребята — просто обхохочешься.
Александр Секацкий: В определенный период эти молодые ребята становятся страшно опасными для общества. Они неуправляемы, с ними невозможно справиться. Компания подростков — это, вообще, какое-то чудовище. Видно, как этот монстр дрожит и вот-вот на тебя набросится. Поэтому во всех обществах их изолировали и готовили к инициации. Увозили в лес, устраивали им там маленький концлагерь и инициировали. Школа это стремление к изоляции унаследовала. Постепенно, за счет домашнего обучения началась инфильтрация. Но общество поняло — что-то с этим не то. Так американские родители отказались от обучения детей посредством компьютерных программ, установленных дома. Чудовища должны
быть отдельно. Сейчас это главная беда для общества. Потому что все институты инициации сломаны, а подростки уже здесь, они, например, полностью захватили власть в эстетике. И мы не знаем, к чему это приведет.
Иван Чечот: Конечно, как можно знать другое поколение изнутри? А снаружи ничего не видно. Вот тут написано слово «гладкий». Что оно значит?
Любовь Аркус: Нешершавый, нецепляющий, тот, который не встречает сопротивления.
Иван Чечот: Но для них эти слова обозначают что-то другое. Вот мы вроде в одно время живем, а я не знаю, кто такой доктор Хаус. Мы, конечно, можем выучить их словарь. Вроде: «Не парьтесь, до конца лекции осталось десять минут. Словите тачку, до дома успеете». Но, кстати, такой вид общения всегда оценивается скорее негативно. Если мы начинаем играть с ними в дочки-матери, это выглядит глупо. Мы не должны садиться в песочницу. С другой стороны, мы должны сидеть на краешке этой песочницы. Одна нога внутри, другая снаружи.
Любовь Аркус: Вот вы преподаете с
Иван Чечот: Я не могу сравнивать поколения на одном и том же уровне. Я двадцать лет работал на кафедре, которая выпускала профессиональных искусствоведов. В эту сферу замшелого профессионализма я вносил какую-то свободу. Но я все равно привык к тому, что даже последний двоечник знает, какая у него специальность, пусть он даже ее и стесняется. Теперь я работаю в суперновой системе, где все — свободные художники. В основе нашего заведения лежит такая мысль— хватит отдельных псведонаук. Пусть будет некое свободное интеллектуальное искусство поисков, рассуждений и анализов. Дети, которые сейчас у нас учатся, очень культурные: языки освоили, чем-то интересуются. Их главная проблема в том, что они не знают, на чем остановиться. Перед ними огромные возможности. Сегодня они могут быть кинокритиками, азавтра — менеджерами культуры. Они падки на модные слова и модные темы. Девицы помешаны на женской красоте и лесбийской проблематике. Еще я замечаю, что им очень хочется разговаривать. Они любят открытые дискуссии в аудитории. Раньше хотели слушать бас-баритон на протяжении двух или четырех часов, а теперь все хотят свои пять копеек вставить.
Любовь Аркус: А куда вы выпускаете детей из Смольного института?
Иван Чечот: Никуда.
Любовь Аркус: А вас это не беспокоит?
Иван Чечот: Но ведь сейчас нельзя кого-то выпускать куда-то. И никогда нельзя было. Мне коллеги иногда говорят: «Не важно, что без специальности. Найди студента, учи его, будет профессионал». Но он не будет профессионалом в пустоте, профессионалу нужна институция. Я часто себя спрашиваю, что было бы со мной сегодня. С моим темпераментом, моими отклонениями. Женский пол в Санкт-Петербурге все красивее, мощней и уверенней. Чтобы я сейчас делал, если бы мне было двадцать один? Был бы я равнодушным? Или работал? Пошел бы я по линии искусства? Я не уверен. Кому нужна сейчас рутинная художественная критика? Это все можно сократить за ненадобностью. Нужно новое и другое. Если бы меня спросили, нужны ли добротные специалисты по искусству, я бы сказал, что не нужны.
Любовь Аркус: Как вы в таком случае понимаете свою педагогическую деятельность? Какие у нее ближние цели? Какой рисунок?
Иван Чечот: Я переосмыслил свою педагогическую деятельность как эстетическое воспитание. Вот сегодня я потратил три часа на некую деву, натуральную домохозяйку. Она собирается писать диссертацию. Подала мне какой-то текст, совершенно безнадежный. И я с ней читал каждое предложение: «Что ты здесь хотела сказать? А здесь?» Остается только воспитывать их, вдохновлять, спрашивать. «Есть у тебя жених»? — «Нет». Объясняй, как его найти. Я воспитатель, выполняющий функции протестантского пастора, который намеками и шутками объясняет, как лучше. В целом я уповаю на естественное развитие. Главное, чтобы интерес к чему-то был. К чтению, к прогулкам, к людям. Если он есть, то все в порядке. Можешь быть даже двоечником…

Иван Чечот
Честно говоря, не понимаю, чего они там боятся. Я не понимаю и этих разговоров о страхе войны или катастрофы. Трястись постоянно значит то же самое, что совсем не трястись. Я вот сейчас вспоминаю свою юность, и понимаю, что был мнительным мальчиком — то у меня здесь кололо, то там. Когда я приходил на кладбище, то видел надгробия типа: «Вася. Шестнадцать лет. Спи спокойно, дорогой сыночек» и обливался холодным потом. Еще у меня был страх математики. Прошло двадцать лет с тех пор, как я закончил школу, а мне продолжал сниться один и тот же сон — экзамен по алгебре. Передо мной большая доска, на которой составлен пример и написано: «Упростить». И я точно знаю, что сделать этого не смогу.
Теперь мне страхи не характерны. Я не боюсь, что меня кто-то съездит кирпичом по голове на вечерних улицах Петербурга. Я не боюсь заразиться, не беру в бане тапочки и не боюсь грибка. СПИДа не боюсь, не предохраняюсь. Можно быть уверенным, что в мире все ужасно, но при этом не испытывать страха.
Читайте также
-
«От Калигари до Гитлера» — Мрачные предчувствия
-
Назад в будущее — Разговор с командой видеосалона
-
Достигнув моря, нелегко вернуться
-
Два дня хорошей жизни
-
«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова
-
«Большие личности дают тебе большую свободу» — Разговор с Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной