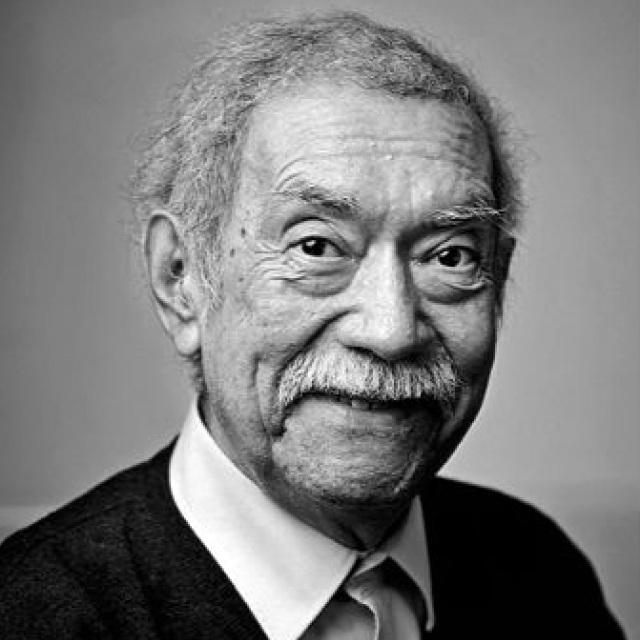По поводу фильма «Обретенное время»
СЕАНС — 49/50
Полтора десятка лет назад я стал, отчасти как бы для упражнения, воображать фильм «Обретенное время», причем именно потому, что речь идет о завершении такого цикла, как «В поисках утраченного времени», чтение которого я начал с «Обретенного времени». Я представлял себе, как буду снимать этот фильм, по нескольким причинам, и первой из них, конечно, была проблема завершенности, окончания; но главное состояло в том, что это текст мистический. Он может быть назван мистическим применительно к разговору о времени, которое приблизительно делится на три великих понятия: время как категория трансцендентальная — характеристики природы у Ньютона, a priori у Канта; время-длительность, доминирующее на Востоке и, например, в философии Бергсона, — которое ошибочно, по моему мнению, отождествляют с прустовским; и, наконец, время-измерение. Перечитывать Пруста с намерением сделать фильм я стал благодаря одному воспоминанию Гёделя об Эйнштейне: последний долго задавался вопросом, почему, если время является измерением, его нельзя увидеть, как видят глубину, ширину или длину; почему время, которое является таким же измерением, как измерения, образующие пространство, можно увидеть только как моменты. Однако некоторым мистикам, кажется, удается воспринять время во всей его полноте. Не потому, что они находятся вне времени, как если бы оно перестало существовать; напротив, они захвачены временем как измерением. Я тогда придумал небольшой рассказ, нечто вроде басни, и начал работать над этой проблемой. Одновременно я еще раз просмотрел короткую статью Гёделя «Несколько замечаний об идеалистической философии, рассмотренной в свете теории относительности», которая вдохновила меня на создание другого фильма, «Судьбы Маноэля» и где рассматриваются связи между идеалистической теорией и теорией Эйнштейна. Гёдель выдвигает следующую гипотезу: если бы нам удалось переместиться в пространстве со скоростью, в семь с половиной раз превышающей скорость света, — вещь немыслимая практически, но вполне возможная теоретически, — мы оказались бы в точке, откуда могли бы вновь увидеть собственную жизнь (но увидели бы мы ее как музейный экспонат или как бы переживая вновь?) и могли бы тогда изменить настоящее, из которого пришли, создавая тем самым нечто вроде непрерывного кольца. Меняешь что-то одно, потом другое и тем самым творишь некое бесконтрольное стремление — упрощенное воплощение этой гипотезы представляет собой фильм «Назад в будущее».

В конце «Обретенного времени» есть несколько примеров времени-измерения. Когда рассказчик, отправляясь на торжественный прием к мадам де Вердюрен, спотыкается и на несколько секунд переносится в Венецию. Чуть позже, в библиотеке, услышав позвякивание ложечки в чашке с чаем, он оказывается в поезде, так как этот звук переносит его в прошлое. Немного погодя он притрагивается к салфетке и оказывается в Баальбеке. И теперь важно понять, почему эти ощущения переживаются с большей интенсивностью, чем пережитые в реальности и вполне заурядные события. Последовательно пережив эти три ощущения, рассказчик заявляет, что после них уже не боится смерти. Но ведь если изучить эту концепцию, то она очень близка к переживаниям восточных… и западных мистиков. Речь идет о видении Бога, не больше и не меньше. В прологе к небольшой книжечке, озаглавленной «Протестантские Мистики», Уистен Хью Оден составил каталог мистических переживаний, где они подразделяются следующим образом: видение Природы (vision of fairy), видение Эроса, видение Агапэ и (самое высокое) видение Бога. Мне кажется, что в романе Пруста постоянно присутствуют первые три. Но снимать мистические вещи труднее всего, поскольку происходит одно из двух: либо видения, которые считаются абстрактными, попросту возвращаются на землю, либо происходит смешение пространств, времен, фотоматериалов… Впрочем, в тот период, когда я работал в Чили над проблематикой совмещения образов, один мой друг вспомнил о статье Жака Буржуа, опубликованной в 1946 году в Revue du cinéma, и принес ее мне. В этой статье, озаглавленной «Пруст и кино», автор утверждает, что Пруста в конечном счете легче снимать, чем читать, поскольку его нарративные приемы, очень трудные в литературном воплощении, совсем не так трудны в кинематографическом. В кино, когда прошлое воскрешается памятью, нельзя сделать ничего другого, как только перенести это прошлое в настоящее. Вероятно, кино — это память автоматическая, но у нее не может быть дополнительной памяти, на чем отчасти и основаны критические замечания Базена. Но у Пруста переживание прошлого естественным образом тут же становится настоящим, ради этого он тщательно разрабатывал свой стиль: у него отовсюду (как если бы принять душ в Ниагарском водопаде) сыплются слова, постоянно возникают одновременные и параллельные ситуации. С другой стороны, Буржуа устанавливает различие между образом-движением и образом движения, что наверняка поразило бы Делёза, хотя это довольно простое понятие, нормальное для тех кинематографических произведений, в которых, согласно определению Жана-Луи Шеффера, упор делается на нарратив и визуализацию.

Визуальная сторона — это эпоха, декорации, актеры; что до нарратива, тут все очевидно — это то, что происходит, повествование. У меня создалось впечатление, что у Пруста эти параметры перевернуты: повествование визуально, а визуальная сторона сама по себе повествование; исключение — война 1914–1918 годов, которая создает в романе именно эффект картины: ничего по-настоящему важного не происходит, и затем все возвращается в исходную точку, нас постоянно отсылают к детству, к той или иной детали, переживанию — это бесконечные повторы, циклические элементы, которые в конечном счете присущи визуальному образу. Именно поэтому я снимал прустовское повествование как картину. Одна ситуация отсылает к другой, время проходит, потом вдруг появляется эмоциональное отношение, и в конце концов мы начинаем любить этих абсурдных персонажей. И история обретает значимость, потому что «ничего не происходит», но в этом «ничего» возникают вещи очень значительные. Почему прустианцев можно встретить чуть ли не во всем мире? В отличие от такого автора, как Джеймс, чьи персонажи и нарративные приемы связаны с определенным образом жизни высшего света, повествование у Пруста представляет собой особый способ видения мира. Я не представляю патагонца в качестве персонажа Джеймса, но без всякого труда могу вообразить папуасов, пигмеев и даже чилийцев прустианцами: случилось нечто, напомнившее мне то или же это, такой-то умер, и я знаю, что такой-то плохо кончит, но это не имеет значения, поскольку тем временем… Это гигантское размножение, показанное на уровне атомов. Во время съемки я тщательно готовил сцену с дочерью Жильберты, там было много статистов и декораций — для меня это оказалось огромной работой, но когда я перечел соответствующий пассаж, оказалось, что все умещается в одной фразе. Между тем, эти повествовательные структуры — малозначительные, короткие, мимолетные — создают в конце концов образ без движения. И скорее уж в прустовских описаниях — в некоторых элементах пейзажа, костюмах, персонажах — можно обнаружить некое действие. Перемещения, движения, происшествия, перипетии образуют картину, тогда как все статичное или эмоциональное — повествование. Я всегда снимал свои фильмы именно так и после знакомства с Прустом осознал, что я не одинок. Хотя существует по крайней мере два прустовских приема, которые вполне можно было бы приложить и к моим фильмам: отклонения от сюжета, не имеющие никаких пересечений как с главной темой, так и с проблематикой всего цикла; и повторения, постоянно возвращающие нас в исходную точку. Я страшно обрадовался, когда узнал, что среди моделей Пруста были сказки «Тысячи и одной ночи», потому что их риторика с характерной для нее серией вставных историй, с присущими ей нарративными синекдохами (когда часть больше целого), чрезвычайно меня интересует, тогда как другая модель — «Мемуары Сен-Симона» — интересует меня гораздо меньше, поскольку там слишком много сплетен. Впрочем, именно этот аспект объясняет, почему из двух чилийцев один всегда прустианец (сам того не ведая).
В общем, я чувствовал себя комфортно, когда снимал вселенную Пруста, поскольку это напоминало мне собственные фильмы. Хотя я понял роман не сразу, не при первом прочтении — очень плохой был перевод на испанский, и только благодаря переводам Педро Салинаса я приблизился к пониманию книги. К несчастью, Салинас скончался, не успев перевести «Обретенное время». Любопытно, что несколько переводчиков Пруста — поляк, японец, итальянец, грек — умерли от астмы, которой у них не было, когда они приступали к переводу. Это немало, причем недавно и мне доктор сказал, что у меня астма. Я спросил у него тогда, не связано ли это с моей работой над Прустом — помолчав немного, он ответил, что винить нужно скорее загрязнение окружающей среды. Но это сюжет для беседы в салоне Вердюренов…

Лучший способ интерпретировать фильм — это увидеть его во сне
Первое, о чем думаешь, снимая фильм: когда он выйдет на экраны, люди либо состарятся, либо умрут. Между тем, у Пруста поражает то, насколько он благодушен по отношению к старости в своих описаниях. Он словно бы за ее пределами. Впрочем, он и сам говорит: люди подумают, что я рассматривал их в микроскоп, хотя в действительности я рассматривал их в телескоп. Его взгляд не жесток — он просто сохраняет дистанцию. Он видит вдали звезды, которые движутся, гаснут. И варьирует длительности таким образом, что мы оказываемся во времени-измерении. В фильме это передано кадрами, с помощью приемов, которыми располагает кино, но в конечном счете учитывать следует темпоральность одного фильма относительно другого, поскольку я всегда снимаю фильм с целью сделать другой. В частности, мне нужно снять в Китае важный фильм о путешествии Матео Риччи, в котором речь пойдет главным образом об искусстве классической памяти. Рабочее его название — Imitatio Imperi («Подражание империи»). Это выражение, придуманное иезуитами, обозначает элементы литургии, заимствованные из обрядовой практики Римской империи и сакрализованные католической Церковью. В этом фильме, естественно, появится дворец памяти — с реальными или воображаемыми конструкциями, — в котором повествования будут представлены как картины. Сама картина дворца памяти, данная раз и навсегда, содержит несколько imago (первоначальных образов), которые отсылают к текстам, и я хочу представить их как образы сновиденческие. В искусстве классической памяти образы — это всегда сновиденческие символы, они напоминают о текстах, но при этом связаны с местами, в которых мы находим временное пристанище. В фильме «Обретенное время», когда рассказчик уходит в прошлое, а потом возвращается оттуда, он приносит с собой какой-нибудь объект, связанный с местом и временем, в котором он побывал. Так, после того как рассказчик спотыкается, мы обнаруживаем у Германтов вещицы из Венеции, а когда он при воспоминании о Сен-Лу отправляется в прошлое — например на кладбище, — мы рядом с гробом видим молодого Сен-Лу, который кланяется. Это довольно простые элементы, микромелодрамы. Элементы, имеющие отношение к нестабильности пространства и времени, уже были в недавних фильмах «Три жизни и одна смерть» и «Генеалогия одного преступления», и здесь они тоже присутствуют, поскольку в начале фильма, когда умирает рассказчик, вещи и предметы мебели начинают перемещаться. Когда же звучит «соната Вентейля», статисты передвигаются одновременно с камерами: это создает совсем едва ощутимый эффект, который формирует… ментальное пространство. Но, в отличие от многих кинематографистов, я не проводил системных параллелей между временем музыкальным и временем кинематографическим. Музыка фильма — это различные вариации, развивающие тему «сонаты Вентейля», которую мы слышим целиком в конце фильма. Разумеется, это подражание нескольким композиторам, которых ценил Пруст, хотя в качестве основной темы мы с Арриагадой выбрали фразу из второй части сонаты Сен-Санса.
Экспрессивность кинематографа заметно уменьшилась: конечно, это оскудение, но за ним может скрываться грядущее изобилие. Один из музыкантов при дворе Абдаррахмана III в Кордове сократил несколько тысяч ладов до двухсот, потом Гвидо д’Арреццо довел их число до четырнадцати. Мы не отдаем себе отчета в том, до какой степени оскудело музыкальное изобилие, когда был совершен переход от нетемперированной музыки к темперированной; но это было неизбежно. В музыке западная техника оказалась наиболее грубой, однако такие технические ограничения создают большие возможности при использовании комбинаторного искусства. И я убежден, что в кино сокращение количества экспрессивных средств может породить великое изобилие моделей. При условии комбинаторного мышления, которым должна обладать молодежь. Нужно уметь читать фильм, как читают карту, — а не анализировать каждый кадр так, как будто он существует вне связи со следующим кадром. В конечном счете, всегда рождается модель — одна она или их несколько, не имеет значения. Сейчас это «нарративная индустриальная модель». Это сфера со своими законами: в приложении к какой-нибудь ситуации она порождает определенную структуру — обычно структуру из трех актов, как в Голливуде… или в деле Клинтона. Но с Прустом не так: отсутствуют скандалы — хотя материала для них с избытком, — отсутствуют главный конфликт или же «план уклона». Последний, кстати говоря, был создан во Франции — это, если можно так выразиться, «модель Золя»: речь не о том, чтобы узнать, куда катишься, а о том, что понять, каким образом скатился так низко. В американской же модели существует конфликт, и после развития его в трех актах мы видим того, кто победил. Достаточно посмотреть, как в Соединенных Штатах называются планы (правила очень жесткие): establishing shot (адресный план), master shot (в котором задается расположение персонажей и предметов в пространстве), medium shot (персонажи на среднем плане), single shot (каждый персонаж крупным планом), потом детали, special shot (передвижения), beauty shot (красивые объекты), the nobody point of view shot («ничейный взгляд»), затем limbo shot (наивный взгляд на ситуацию), и так далее. В моем американском фильме, «Джесси», я избегал master shots и делал только limbo shots, в которые можно включить крупный план — я это делал, добавляя объекты-отмычки, наподобие маленькой статуэтки на заднем плане. Камера у нас была направлена на элемент второстепенный, не являющийся необходимым или выбранный произвольно.

Сейчас, когда «Обретенное время» завершено, я спрашиваю себя: что бы мне еще сделать? Вот недавно у меня случился спор с другом-математиком, Эмилио, который изучает бесконечно большие величины. Недавно, перечитав «Толкование сновидений» Фрейда, он открыл модель, которую можно было бы применить к тому, что в теории бесконечных величин называют «нестандартной моделью». И пока он мне все это объяснял, я говорил себе: лучший способ интерпретировать фильм — это увидеть его во сне. Работа сна эквивалентна работе над мизансценой — есть перемещения разной степени интенсивности, конденсации. Это мизансцена сна. Я, наверное, именно так и делал, по-настоящему этого не сознавая. И здесь, конечно, речь идет о модели сна, а не о том факте, что видишь фильм во сне. Возможно, кто-то скажет, что сам фильм, когда его смотрят, являет собой сон наяву, потому что в конечном счете он основан на чрезвычайно простой риторике, суть которой в перемещении объектов внимания и в играх с кинематографическим бессознательным, — но все зависит от способа его прочтения. Верно, что при нашем способе проживать фильмы наши кинематографические привычки нас ослепляют, и есть тенденция не видеть перемещений такого рода. Но они существуют и работают.
Март 1999 года
Записали Хасинто Лагейра и Жиль А. Тибергьен
Перевод с французского Елены Мурашкинцевой
Читайте также
-
Берлин-2026: Терпение, победившее нетерпимость — «Дао» Алена Гомиса
-
Ямальское искушение — «Цинга» Владимира Головнева
-
Берлин-2026: Любить Билла — «Все тащатся от Билла Эванса» Гранта Джи
-
Дом, в котором страшно — твой
-
Собачка говорит «гав» — «Здесь был Юра» Сергея Малкина
-
Железная чайка — География кино