Поэтичный романист

Рисунок Анастасии Тузлуоквой
Прокопий Вениаминович — человек густого замеса, нисколечко не пирожок ни с чем, хотя бы одного теста хватало в нем, чтобы не казаться полым. Человек этот читал Антошу Чехонте и писал собственный роман, по четным дням читал, по нечетным — писал. Когда же возникали цифирные сомнения — пил витамины, ходил на работу или в кабак, с тем же рабочим постоянством. А поскольку работал он на дому, отсылая раз в неделю умелые рифмы по адресу, человеком слыл крайне непьющим. По четным отсылал, по нечетным получал — новую тему и копеечку. Человек этот страдал каким-то любопытным невротическим недугом и, само собой разумеется, болел он по четным дням, а по нечетным — лечился. А в один интересный день открыл холодильник, задумался и умер. Скис как молоко в четный день месяца. С квартирой государству отошло собрание сочинений А.П. Чехова, хитростные рифмосплетения — «добра — тепла — семейного угла» да нетленная рукопись
нечетного дня.

Рисунок Анастасии Тузлуоквой
Прокопий Вениаминович человеком был, скажем, невысокого социального роста, карьерная лестница его походила на порожек в сельской бане или на тротуарный бордюрчик, о который он нечаянно споткнулся в нетрезвости. Рифмой «свет — полусвет — извините, мест нет» встречали его закрытые общества, зато открывались общественные места. Он их страсть как любил. Особенно трамваи и привокзальные туалеты. Первые за вечное броуновское движение и народное единение, вторые — тоже за движение, но в персональном, кабинетном одиночестве. Он частенько писал свою трамвайную прозу, припертый к двери, пальцем левой руки на запотевшем стекле. Случалось так, что вдохновение посещало его в середине транспортного тела, и он задумчиво выводил на дамских демисезонных формах неприличные рифмы. Или приличные рифмы на неприличных формах. Каждый раз искривленные губки цвета фуксии щедро вознаграждали и пополняли творческий литвокабуляр чудного мужчины ядерной силой женской поэзии. В общественных же кабинках раскрывалась его душевная красота — тонкой чувственной строчкой
вверх». Опьяненный чувством внутреннего опустошения и словесного истощения брел Прокопий домой. И лишь там ставил финальную точку повествования — нагнувшись к почтовому ящику, тихо нашептывал в старость печатных знаков новый, ведомый только времени смысл. А после, в предвкушении завтра, укладывал классика в газетной обложке на край своего почивального места.
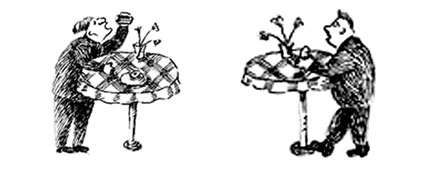
Рисунок Анастасии Тузлуоквой
Было бы огромным невежеством говорить об этом человеке как о рупоре вандальной эпохи, тем более как о движущей силе прозы общественных мест. Нет, герой наш имел качественно иную природу письма и литературных ориентиров. Скажем, случалось ли вам опрометью мчаться мимо? Именно мимо во имя. Во имя неотложных скорых дел, встреч, сквозь моноблочных людей, мимо монолитных избушек, монотонных настроений, смакуя свою занятость и надобность, причмокивая деловитость, промокая ладошкой пот, вдруг остановиться, ощутив всю бесполезность и ненужность этого испаренного бега. Тут же чужие спотыкающиеся конечности принудят вас раствориться в ближайшем переулке на безликой стене. Рассыпающееся на сипы дыхание, ритмичная колотящаяся мысль вдалбливает в нутро одну фразу. Нащупывая ее глазами на стене, вы понимаете, что она, вырванная прямиком из вашего сознания, скромно ютится в углу арки черным угольком — «Докатился вперед. Думал, время не ждет». А бывало ли так, что облокотились вы на пыльную скамейку с разваливающейся

Рисунок Анастасии Тузлуоквой
Читали ли вы его прозу? Как? А снизу вверх, по строкам, изучая не в меру роскошную диву, запоем, одним залпом водки на скорость, умиленно, с азартом, показывая язык изумленному инспектору ГИБДД, по диагонали, следами на мокром песке голых ног, медленно, водя прищуренным глазом по его роману, пуская струйки дыма на балконе… Тихо перелистывая страницы, живет роман нашего чудного человека в головах читателей, мы декламируем его, слышим о нем, перечитываем понравившиеся места. Мы зачитали наше сегодня до дыр, — Прокопий шепчет нам новое место в главе. География романиста огромна, читатель масштабен, цензура пройдена, размах!
Писательский почерк… понятный… Ровный, округлый шрифт, простая народная форма, и он, смысл, в котором каждый узнает себя и отводит себе место. Как, думаете, вон та женщина с пивной авоськой и лыжной клюкой, любит ли она Флобера? А девушка и мужчина со сломанными ногтем и карбюратором, цитируют ли они Чехова? Разбитые сердца и бутылки, игры пьес и нервов, звучащие балы и панихиды читают нечетный роман.
Было бы крайне неосмотрительно не отдать должное поэтике, ярким изданиям и кричащему глянцу наследия его рифм. Если проза пишется на актуальное сегодня, то поэзия, безусловно, «метит» в века. Улыбнитесь, вам это случалось, когда примерещилось Восьмое марта, и с неохотой в супермаркет за спекулятивным цветком. Или, может, закатите глаза — нагрянувший мохнатый юбилей и торт в бумажной коробке, чем черт не шутит, хлопайте в ладоши — вдруг роскошный день рождения с плюшевыми комками, а если… забудьте — годовщина. Вон та, с рыжей герберой или крупными розами и золотым шрифтом и тиснением, она, с сердцем и кольцами. Пестрый картон — анонимная поэзия веселых и скучных безликих праздников. «Успех… чтоб лучше всех… да веселый смех». У каждого в закоулке головы найдется строка из недописанного нечетного романа. У всякого — неподписанное послание в ящике стола.

Рисунок Анастасии Тузлуоквой
«И в нечетном жизни романе его проза встречается с нами». А вы читали? Снимаю шляпу. Ружье выстрелило.
Крепкий орешек был этот Прокопий Вениаминович, нисколечко не сухофрукт, а спекся, как урюк в четный день месяца.




