Пасынки мечты
Считается, что само слово «ретрофутуризм» появилось
довольно поздно — предположительно в середине
1980-х. Его рождение связывают с именем художника
Ллойда Данна и его журналом PhotoStatic. Вполне возможно,
что и так, — во всяком случае, к восьмидесятым
будущее стало стремительно испаряться, замещаясь
уже не разработанной визуальной средой, а сухим
прогнозом. Научные достижения стали слишком сложны
для понимания широкой публикой, политическое
вытеснило фантастическое, а социальные фантазии
увяли, завершившись, в итоге, приснопамятным «Концом
истории». Киберпанк стал последним разработанным
странствием в грядущее — да и то, по мнению своих
создателей Стерлинга и Гибсона, имел больше отношения
к дню сегодняшнему, чем завтрашнему.

И чем меньше у нас оставалось будущего, тем больше
входил в моду ретрофутуризм, основанный на самом
разумном умозаключении: если будущего нет
здесь, надо искать его там, где оно было.
* * *
Всемирная ярмарка в Нью-Йорке 1939 года была одной
из крупнейших в истории проведения подобного рода
событий. Бесчисленные павильоны привлекли колоссальное
внимание, перед Америкой и миром, все еще
контуженными Великой депрессией, предстали образы
технической и научной мощи человечества, внушавшие
посетителям утраченный было оптимизм. Но несколько
экспонатов пользовались особым вниманием публики.
Во-первых, на этой ярмарке была заложена «капсула
времени» — контейнер, который должен быть распечатан
лишь в 6939 году. В него были помещены: письма
Альберта Эйнштейна и Томаса Манна, пачка сигарет
Camel, копия журнала Life, пластмассовый пупс Kewpie,
доллар, семена важнейших сельскохозяйственных
культур и миллионы страниц текста на микрофильмах.
Другой экспонат имел отношение к более близкому
будущему. Двадцать восемь тысяч человек ежедневно
выстраивались в многочасовую очередь у павильона
General Motors, чтобы увидеть «Футураму» — грандиозное
шоу, посвященное миру 1969 года. Войдя в темный
зал, посетители рассаживались в установленные на
тридцать шесть тысяч квадратных футов показывал с высоты
птичьего полета мир победившего разума и комфорта
— фермы под стеклянными колпаками, сверхскоростные
шоссе с автоматическим управлением потоками,
невиданные города.
Характерно, что построил все это великолепие некий
Норман Бел Геддес, театральный художник и
представитель совершенно новой профессии — промышленного
дизайна, совместивший в «Футураме» оба
своих увлечения, искусство и промышленность. То, что
у него вышло, можно увидеть в фильме «Highways and
Horizons», доступном в Интернете, не предсказанном
Геддесом. В Интернете же можно найти любительский
фильм о ярмарке 1939 года — немой, чуть бессвязный,
но говорящий об эпохе, быть может, больше проекта
Геддеса: будущее в объективе любительской камеры
представало вполне осязаемым, плотным, крепко схваченным
в строении павильонов, в удивительных барельефах,
совершенным и таким… доступным.
Сказать, что последовавшая вскоре Мировая война
внесла свои коррективы в этот оптимистичный взгляд,
было бы неверно, — тотальное уничтожение стало
лишь темной тенью тотального процветания, его мрачным
отражением. Но важно здесь другое: была в истории
человечества эпоха, когда присутствие будущего
ощущалось как никогда явственно, когда интерес к нему
выплескивался на страницы политических и женских
журналов, — даже Bazaar и Housekeeping, не говоря о
Life и Newsweek, посвящали статьи грядущему. В первой
половине прошлого века концентрация будущего была
невероятной — особенно в сравнении с нашими
скромными «нанотехнологиями» и «вертолетными такси». И, что еще важнее, это будущее выходило за пределы
социальных и политических теорий в бесчисленные
дизайнерские проекты — архитектурные, градостроительные,
будущее вторгалось в область моды и предметов
быта.
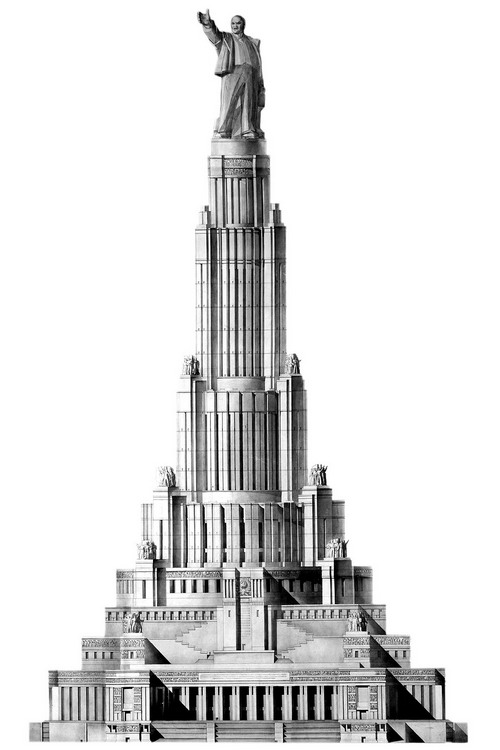
К 1939 году на экраны уже вышли основные картины,
ставшие эталоном стиля в понимании той эпохой
образа будущего: «Метрополис» (1927), «Только представьте» (1930), «Облик грядущего» (1936). Все пророчества
были достаточно мрачными, даже в «Только представьте», задуманном как комедийный мюзикл, делались
довольно невеселые предположения о сугубо
тоталитарном 1980-м. Однако художественная выразительность
этих картин оказалась столь гипнотической,
что сегодня само слово «ретрофутуризм» связывают в
первую очередь с ними. Что не удивительно: заложенный
в них тоталитарный концепт оставался актуален
на протяжении всего столетия. Рожденный из «стального
урагана» Первой мировой, Депрессии, великих
надежд и технических прорывов перед новой всемирной
катастрофой, вечный Метрополис стал символом
коллективного существования, несущего немало страданий
элементарным частицам общества, знаком веры
в величественную мощь разума, неизбежно униженную
социальной несправедливостью. Призрак вечного
города можно найти повсюду — не только в осознанных
репликах вроде «Небесного капитана» или «Антенны», но и в Готэм-Сити «Бэтмена», и в «Темном городе»
Алекса Пройаса, и в «Бразилии» Гиллиама, и в «Бегущем
по лезвию» Ридли Скотта.
Однако кажется, что сегодня волнует в названных
фильмах не это, а более тонкая тоска по изумительной
предметности мира, по форме, массе, фактуре. Первые
архитектурные проекты великого Бакминстера Фуллера,
рисунки Франсиско Мухики, скрестившего небоскребы
Нью-Йорка с пирамидами майя, фантазии Фрэнка Ллойда Райта и Ле Корбюзье… все эти люди работали одновременно
с Фрицем Лангом и Александром Кордой. Все
вместе они превратили Метрополис не столько в предсказание,
сколько в мечту. Мрачная ирония истории показала,
что прав был скорее Ланг, чем Райт, — ближе
всех к воплощению этой мечты подошли Альберт Шпеер
с его замыслами реконструкции Берлина и Борис Иофан
с нереализованным проектом Дворца Советов.
* * *
Конечно, 1939-й был кульминацией долгого процесса.
Еще в девяностых годах XIX века журналы публиковали
карикатуры, в которых изображался человек будущего.
Симпатичный джентльмен в костюме-тройке, с тоненькими
ручками и ножками и огромной, похожей на луковицу
головой пояснял идею о том, что в будущем отпадет
необходимость в физической силе, зато мозг разовьется
до необычайных размеров. Фантазии Жюля
Верна уже стали классикой, романы Герберта Уэллса
только становились ею — одновременно с кинематографом
Жоржа Мельеса. И хотя в число предсказаний
Верна вносят полеты в космос, подводную лодку и
электрический стул, кинематографическая суть того
времени содержалась не в них. Конечно, гигантский паукообразный
механизм из «Дикого, дикого Запада», летающий
паровоз из «Назад в будущее» и латунные механизмы из последней экранизации «Машины времени»
принадлежат той эпохе. Но речь здесь идет не о будущем
как таковом и цитаты из Мельеса в «Антенне» не
имеют отношения к пророчествам фантастов и футурологов,
давно покоящихся в могилах. Подобно фантазмам
Жана-Пьера Жёне и Марка Каро в «Деликатесах» и
«Городе потерянных детей», кинообращение к той эпохе
заинтересовано в мире вещей, грубости и весомости
предметов — среды, давшей питание стимпанку.

И если Метрополис — мир коллективов, грандиозных
строений, общественных процессов и массового
производства, то субмарина капитана Немо, лаборатория
Путешественника во времени и Путешественника
на Луну — мир дерзких одиночек и таинственных механизмов.
В нашем универсуме одноразовых изделий
— невероятно привлекательный образ. Стеклянный
хромированный шприц, хрупкий и тяжелый, — отличная
аллегория индивидуального страдания, тогда
как его удобный пластиковый аналог — всего лишь
знак социальной проблемы. Шестерни и часовые механизмы,
силы пара и электричества обладают особой
магией. Лежащая в сумеречной зоне меж наукой и колдовством,
эта магия сродни силам, оживляющим зловещего
убийцу в «Хеллбое»: хрупкое устройство, помещенное
на место сердца, пара поворотов ключа и
мертвец идет. Фактически речь — об алхимии — достижении
фантастического при помощи научного. Вероятно,
Жюль Верн был бы глубоко оскорблен подобной
трактовкой, но что поделаешь… Большое видится
на расстоянии.
* * *
Пока любопытные граждане толпились в очереди на
«Футураму», в Америке складывался новый стиль — нуар.
Нельзя сказать, чтобы область фантастического
стала единственной зоной, задетой этим явлением, —
влияние «черного фильма» на культуру оказалось воистину
грандиозным. Однако нельзя не заметить, что
простое сложение «Метрополиса» и «Это случилось
однажды ночью» с различными поправками уже дает
«Бразилию», «Альфавиль», «Бегущего по лезвию», «Темный
город» и даже, с известными оговорками, «Матрицу». Мятые костюмы, шляпы, пальто, жестокий мир без
надежды, война каждого против всех: так ли важно,
преследует герой мафию или репликантов и кто за ним
гонится — бандиты или воинственные подпрограммы,
если в конце концов проиграют все?
Возможно, дело в незначительности временного
сдвига между футуристическими фантазиями 1930-х и
расцветом нуара в 1940-х: работает аберрация дальности
и оба явления слипаются в единое целое. Предостережения
об опасности для социума превратиться в
муравейник, управляемый недружественной волей, и
бунт одиночки против самой судьбы за право, в конечном
счете оставаться собой, одиночкой, подходят друг
к другу как две части пазла.
Кажется, однако, существенным, что «черные фильмы»
стали со временем образцами стиля — не собственного,
а стиля вообще, той расплывчатой области, что с трудом
определяется, но опознается интуитивно и мгновенно.
Пресловутая предметность мира доведена здесь
до блистательного предела: шляпы, чулки, автоматы
Томпсона, бакелитовые телефоны и таблички на дверях
заплеванных контор частных сыщиков; все здесь живописно
и самодостаточно почти на грани самопародии,
как в «спагетти-вестернах». Стремление к выразительности
кадра, к работе с объемами поднимает выразительность
нуаров до предела — и это прекрасный,
плотный и ноский материал, чтобы кроить из него
столь эфемерную ткань, как будущее.
***
Новое сгущение будущего произошло в 1950–1960-х,
но уже на новой основе. Ядерная угроза стала повседневностью,
запуск советского спутника проложил
дорогу в космос, и новые вызовы породили новые надежды,
разбудили любопытство, инициировали новые
страхи. «Космическая одиссея 2001 года», «Фантастическое
путешествие», «Барбарелла»; каждый на свой
лад, пытались заглянуть в грядущее, хоть и не с тем
искренним пылом, что их предшественники четвертью

века раньше. Будущее уже не являлось сосредоточием
надежд — кажется, оно просто вошло в моду. Промышленный
дизайн развился в могучую индустрию,
мимикрия предметов быта под нечто более возвышенное
стала привычным делом: если экспериментальные
модели автомобилей того же Геддеса отражали
облик техники новых времен, то теперь холодильники
и радиоприемники притворялись космическими
звездолетами. Постановщиков вдохновляли уже новые
архитектурные проекты, лишенные имперской тяжести
1920–1930-х, созданные не для перенаселенной
угнетенным пролетариатом планеты, а для нового человечества,
расселившегося по Галактике. Образцом
подобного стиля можно назвать советскую «Туманность
Андромеды» — экранизацию 1967 года романа
Ивана Ефремова — и «Одиссею» Кубрика. Безлюдность,
сменившая кишение толп, — первое, что поражает
в этих проектах. Это мир причудливых зданий и
нетронутой природы, мир огромных залов и пустых
коридоров.
В поисках выразительной формы для будущего к
этой эпохе обращались не так давно «Звездный десант»
и «Гаттака». «Десант» похож на ожившую обложку фантастических
журналов времен расцвета творчества
Хайнлайна, по книге которого построен фильм. «Гаттака» — на рисунки к солидному академическому изданию
по истории фантастики 1960-х. И в конечном счете
эти фильмы обращались снова к мечте и ее естественной
физической среде. Пускай «Десант» Верхувена стал
сатирой на милитаризм и фашиствующий «новый мировой
порядок» — книга Хайнлайна до сих пор входит в
список для чтения американских военных академий
для морпехов. Пускай «Гаттака» рассказывает о проблемах
генетики, только сейчас ставших актуальными. В конечном
итоге, оба они возвращаются к мечте о звездах,
подобно тому как «Метрополис» был мечтой о совершенном
обществе, а «Путешествие на Луну» — мечтой
о тотальной победе разума над природой.
***
Образы великой мечты — вот что питает ретрофутуризм.
Надо признать, однако, что с самим этим термином масса хлопот. Ведь в конечном счете все полноценные
произведения этого жанра, как «Небесный капитан» или «Антенна», остаются изолированным, эстетским
десертом. Все прочие — «Бегущий по лезвию»,
«Альфавиль», «Матрица» — суть произведения, лишь
заимствовавшие элементы из прошлого.
В связи с этим особенно интересно обратить внимание
на последние российские фильмы — «Первые на
Луне», «Пыль», «977». Чем являются они — частью поросшего
бурьяном советского грядущего, странной
производной от «токийского эпизода» «Соляриса», грязных
луж «Сталкера», неловкого дизайна «Гостьи из будущего», фантастическим и завораживающим отражением
эпохи НИИ, НТР и ИТР, отражением еще одной великой
мечты, чьи обломки мы пытаемся вновь заселить?

При попытке определить, что такое ретрофутуризм
(стиль? направление? жанр?) кажется разумным
сделать шаг назад и позволить скучной и в конечном
счете произвольной классификации уступить место
чувствам. Быть может, это просто эхо тех великих надежд
человечества, смутный шепот которых мы, почти
разучившиеся мечтать, еще в состоянии различить.







