Волки, молодые и старые
СЕАНС — 49/50
Политический приговор, вынесенный критикой новорожденной «новой волне», долгое время был для меня загадкой — и лучше бы он ею и оставался. Почему, например, Positif писал о «На последнем дыхании» (À bout de souffle, 1960) Годара, что «анархист Габена был из тех, кто сражался в интербригадах; анархист Бельмондо — из тех, кто пишет с орфографическими ошибками в переходах метро «смерть жидам»», а Фредди Бюаш — о «фашизоидной ностальгии» фильма. Почему Раймон Борд обвинял «Лифт на эшафот» (Ascenseur pour l’échafaud, 1958) Маля в «неонацистском романтизме», а статьи Трюффо Positif считал «фашистскими»?
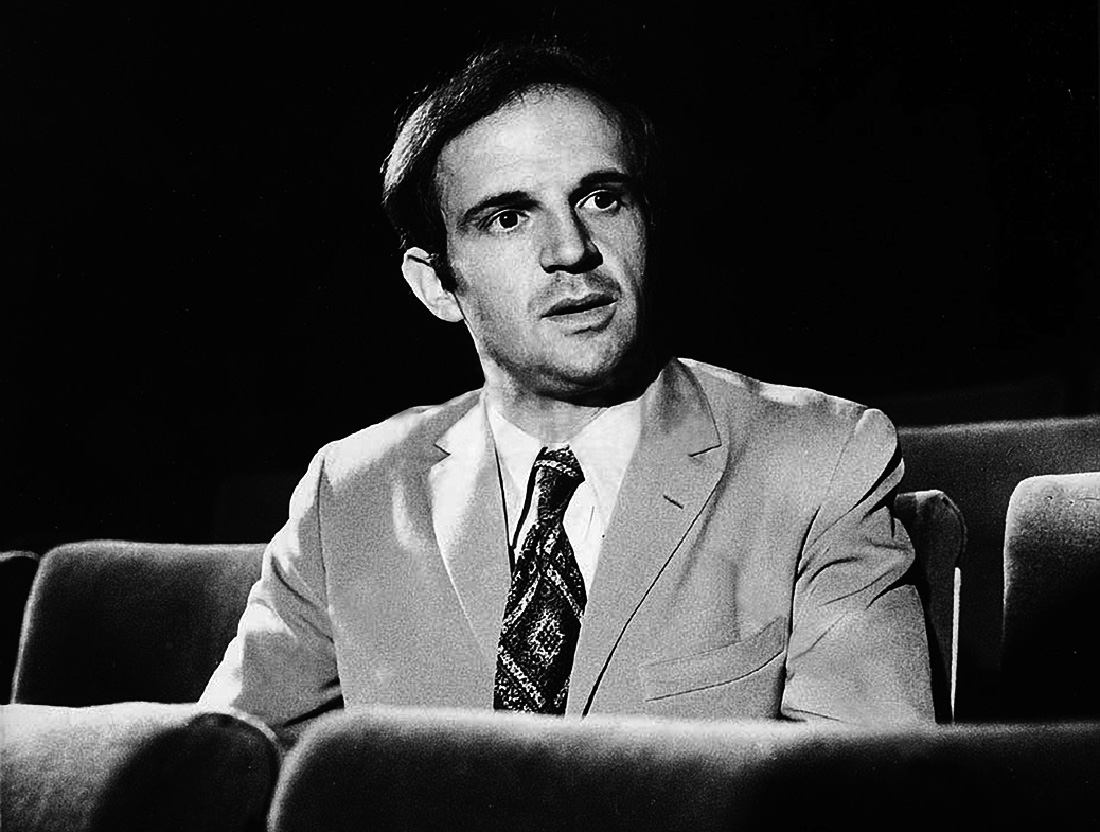
Да, левый Positif, близкий к сюрреалистам, был оппонентом католических Cahiers du cinéma: так, Cahiers превозносил мистические откровения Росселлини, а Positif видел в нем трусливого фашиста, перекрасившегося в певца Сопротивления. Да, Борд, создатель синематеки в Тулузе, был антагонистом Ланглуа, иконы «молодых волков» Cahiers. Но между стилистическими или идейными разногласиями и обвинениями в нацизме — пропасть. Что это? Коллективная аберрация критического зрения? Эксцессы политической ангажированности?
Наш ретроспективный взгляд на «волну» близорук. В политической системе координат она кажется нам левым феноменом: маоизм Годара, режиссеры на баррикадах 1968 года. Ну, если не однозначно левым, то, безусловно, антифашистским: «Последнее метро» (Le dernier métro, 1980) Трюффо, «До свидания, дети» (Au revoir les enfants, 1987) Маля. Но ведь все это было позже, позже.
У колыбели «волны» стояли странные волхвы.
* * *
Критик и режиссер Жан Душе вспоминает: в редакции Cahiers господствовал «правый анархизм в духе Дриё Ля Рошеля». В «Маленьком солдате» (Le petit soldat, 1963) Годара упоминается, что расстрелянный отец героя был другом Дриё.

Пьер Дриё ля Рошель — один из лучших авторов «потерянного поколения», чьи нацистские убеждения сформировались в середине 1930-х, а в годы войны перешли грань паранойи. 15 марта 1945 года он принял снотворное и открыл газ в квартире, где скрывался от ареста и расстрела за измену родине. Умереть удалось с третьей попытки; между попытками он, как считается, отверг предложение верного — несмотря ни на что — дружбе Андре Мальро вступить под псевдонимом в его танковую бригаду, бить немцев — а там все, дай бог, позабудется. Ведь в начале оккупации Дриё вытребовал — в обмен на свой активный коллаборационизм — у лейтенанта Герхарда Геллера, отвечавшего за культурную политику оккупантов, освобождения из немецких лагерей военнопленных писателей, в том числе Сартра, и гарантий неприкосновенности для антифашистов Мальро и Полана, коммуниста Луи Арагона, издателя Гастона Галлимара.
«Правый анархизм» — элегантный псевдоним фашизма по-французски. Историк Мишель Винок определил его экзистенциальную суть так:
Там, где фашизм не сумел утвердиться (например, во Франции), он остался в значительной степени эстетикой, способом жить, способом не жить здесь и сейчас и в конечном счете способом умереть. Жить в «пророческом неверии», бороться за безнадежное дело, выбрать собственную смерть.
* * *
Трюффо. Вечный ребенок: нежный, нервный, тоскующий о потерянной невинности.
Вопрос, кто первым — вне стен Cahiers — оценил и поддержал его дар, не так невинен, как кажется.
25 ноября 1955 года двадцатитрехлетний Трюффо получил письмо от Люсьена Ребате (1903–1972), восхищенного его статьей в журнале Arts о фильме Жана Деланнуа «Бродячие собаки без ошейников» (Chiens perdus sans collier, 1955): «Вы напомнили мне юного Виннея 1930-х. Мой старый друг Жак Беккер восхищенно рассказывал мне о вас».

В 1950-х Ребате пишет о кино в Rivarol, Dimanche matin, L’Auto-journal, Le Spectacle du monde. Франсуа Винней — его псевдоним. Сначала он назвался Франсуа Винтеем в честь персонажа Пруста, но быстро сообразил, что комично писать о кино под псевдонимом, на слух воспринимаемым как Франсуа Двадцатиглазый. Незадолго до смерти (1977) Анри Ланглуа якобы доверительно сказал Лотте Айснер: «В XX веке было только два великих кинокритика — Франсуа Винней и Франсуа Трюффо». Нино Франк, автор термина film noir, тоже называл Виннея великим критиком.
Ребате, сын провинциального нотариуса, в апреле 1929 года дебютировал как музыкальный — а в феврале 1930-го и как кинокритик — в монархической газете Action Française (AF). В мемуарах он напишет, что ему повезло: Шарль Моррас, главный редактор газеты, лидер одноименного политического движения, патриарх национализма, видел в жизни один-единственный фильм — «Бен Гур», — который назвал «отвратительным еврейским товаром». У Ребате были развязаны руки; он превозносил «большевистские фильмы, еще одушевленные революционным лиризмом, фильмы иудеонемецких экспрессионистов, клоунов из гетто братьев Маркс, жесты1 об американских гангстерах — то есть образы, совершенно чуждые мистралистской2 или неоклассической эстетике и нравам «Девушек-роялисток”3 с их сорокалетней девственностью».
Сотрудничество с Моррасом не мешало Ребате состоять в Ассоциации независимых критиков, где доминировали левые: Жорж Альтман, Клод Авелин, Пьер Бост; а также дружить на протяжении всей жизни с немецким евреем-иммигрантом Максом Офюльсом. Ближайшим другом Ребате был президент Ассоциации Рене Клер, приобщавший его к песням Эрнста Буша и возмущавшийся, что в AF ему платят всего 1500 франков в месяц: «С вашими статьями в Нью-Йорке вы раскатывали бы на огромном «бьюике»».
1 Жеста — (от лат. gesta — деяние) — жанр французской средневековой литературы, эпическая драма о рыцарских подвигах.
2 Имеется в виду провансальский поэт Фредерик Мистраль.
3 «Девушки-роялистки» (Jeunes femmes royalistes) — молодёжная организация Action Française.
Шанс раскатывать на «бьюике» у Ребате был. В августе 1940 года Жан Ренуар, не забывший, что Винней назвал его «Великую иллюзию» (La grande illusion, 1937) фильмом «самой строгой и самой мужественной красоты» и самым человечным — в пику «плаксивой сентиментальности и напыщенности иудеопарижского кино» — фильмом, предлагал критику, только что освобожденному из немецкого плена, вместе бежать в США. Но Ребате остался и немало способствовал расцвету французского кино времен оккупации.

Именно к нему пришел в 1941 году Жак Беккер, едва освободившись из плена, где ему пришлось несладко (близок к коммунистам, фамилия похожа на еврейскую), — едва ли не в лагерной робе. Ребате с энтузиазмом поддержал его первые фильмы. Вообще у французского кино «черных лет» нет более пылкого пропагандиста, чем Винней. В пику буржуазной посредственности, «фернанделизму», низкому вкусу алчных продюсеров, он первым приветствовал Клузо и Брессона, поддерживал Отан-Лара, Декуэна, Кристиан-Жака, Мориса Турнёра, Жоанона, Деланнуа, Карне, Гремийона.
Тексты военных лет обеспечили Ребате репутацию провозвестника «политики авторов», будущей идеологии Cahiers.
Он был не только критиком. Его «История музыки» (1969) считается хотя и субъективным, но выдающимся трудом. Роман «Два штандарта» (1952) — одним из важнейших французских романов XX века: Джордж Стейнер, литературовед с мировым именем, сравнивал его с романами Толстого, а выдающийся лингвист Рене Этьембль — с «Люсьеном Левеном» и «Волшебной горой».
Ребате действительно был блестящим литератором.
Убедитесь в этом, почитав его «Мемуары фашиста».
* * *
Не странно ли, что статьи Ребате собраны в книгу лишь в 2009 году? Что Этьембль оговаривался: «Штандарты» — «великий роман», но автор — «подонок», «настоящий убийца»? Что Сартр изгнал Этьембля из редакции Temps Modernes за восхищение этим романом?
Винней — он что, существует отдельно от Ребате?

Если Винней надеется спасти Ребате в день сведения счетов, упирая на его талант критика и пользу, которую он принес, он ошибается. Никакого алиби!
Это написано в апреле 1944-го. В той же статье автор сообщает: если кому интересно, Ребате женат на еврейке. Донос нациста? Нет, статья сценариста Бернара Зиммера в подпольной газете Lettres Françaises, близкой к компартии.
Дело в том, что Ребате — не просто имя. Это диагноз и приговор.
«Я протягиваю вам руки, товарищи мои, эсэсовцы всех наций» (Ребате, 1944).
«Никакого либерализма, когда речь идет о коммунистах; с этими людьми не вступают в споры», «я был в бою», «когда сражаешься — а мы сражались — стреляешь, и если убиваешь врага, редко жалеешь об этом» (Ребате, 1970).
Ребате прежде всего публицист (с 30 апреля 1930 года) газеты Je suis partout (JSP), превратившейся с середины 1930-х — когда группа молодых редакторов выкупила ее у издателя Файара, — а особенно в годы оккупации из просто крайне правого издания в вестник французских нацистов. Не коллаборационистов-конформистов военной поры, а именно радикальных нацистов, для которых даже режим Виши — рассадник еврейской и коммунистической заразы.
Нацистов романтических, революционных, непримиримых. Нацистов до конца дней своих. Признавших себя побежденными в мировой гражданской войне с жидобольшевизмом, но упрекавших Гитлера лишь в том, что тот предпочел немецкий национализм идеалу единой Европы и счел славян низшей расой.
Нацистов-смертников.
Смертников — в прямом смысле слова.

Ребате вступил в переписку с Трюффо, едва оправившись после семи тюремных лет: из них 141 день он провел в ручных и ножных кандалах, в камере смертников. В ноябре 1946-го его приговорили к смерти за измену родине. Вместе с ним судили двух редакторов JSP: Пьера-Антуана Кусто тоже приговорили к смерти, Клода Жанте — к пожизненному заключению. 10 апреля 1947 года президент Ориоль заменил расстрел Кусто и Ребате на пожизненную каторгу, а 16 июля 1952 года их освободили.
Вину Ребате усугубляло то, что он ушел из Франции с немцами: его арестовали в Австрии 8 мая 1945 года. Но именно это спасло ему жизнь: попадись он раньше, расстреляли бы под горячую руку. А к 1947-му влияние коммунистов, требовавших голов предателей, сошло на нет. По логике холодной войны, нацисты оказались врагами врагов преемников де Голля.
«Штандарты» Ребате дописывал в тюрьме, рукопись объемом в две тысячи страниц вынес на волю поставщик тюремной столовой.

Впрочем, еще до публикации «Штандартов» Ребате был знаменит. Его прославили «Руины» (1942) — яростный памфлет против всех, кто довел Францию до поражения: монархистов, националистов, коммунистов, лицемерной и продажной парламентской демократии плутократов и, конечно, евреев. 65 тысяч экземпляров разлетелись мгновенно. Издательство Робера Деноэля получило 200 тысяч читательских заявок, но было бессильно: распределение бумаги строго контролировали немцы. К Ребате выстраивались очереди за автографами; он признавался, что едва ни спился на ежевечерних банкетах в свою честь; Сопротивление в бессильной ярости бросило бомбу в витрину книжного магазина La Rive Gauche, где презентовали «Руины». Принадлежал магазин, кстати, брату Мориса Бардеша, о котором речь еще пойдет. Изуродованные документы он снова выставил в витрине под лозунгом: «Бомбы против идей!».
После Освобождения Деноэлю инкриминировали публикацию двух книг Ребате как доказательство его предательского сотрудничества с оккупантами. Деноэля освободили от уголовных обвинений, но комиссия по чистке литературы собиралась запретить ему издательскую деятельность. Незадолго до заседания комиссии, 2 декабря 1945 года, Деноэль был убит, а досье, которое он собрал на коллег-издателей (оно доказывало всеобъемлющий характер коллаборационизма), исчезло.
Кстати, и JSP была самой читаемой газетой: ее тираж возрос с 40 тысяч в 1941 году до 300 тысяч в 1944-м. В апреле 1938 года Ребате подготовил специальный номер JSP «Евреи», в феврале 1939-го — «Евреи во Франции». В сентябре-декабре 1938 года опубликовал цикл статей во славу полковника Кодряну, лидера самого изуверского — наряду с хорватскими усташами — нацистского движения Европы, румынских «легионеров». В Вене восторгался видом разгромленных еврейских магазинов. Призванный в армию в 1940-м, нашел общий язык только с одним однополчанином, евреем Вормсом, но и ему «отрезал бы голову, не моргнув».
* * *
Хроника жизни Ребате на излете оккупации выглядит забавно.
Он заседает в жюри конкурса сценариев, объявленного еженедельником Comoedie, вместе с Колетт, Барро, Сартром.
15 января 1944 года на митинге JSP в зале Ваграм — под лозунгом «Мы не сдулись» — требует арестовать Лаваля и Петена, «которые защищают маки».

27 мая Сартр лично приглашает Ребате, Кусто и Алена Лобро, о котором речь еще впереди, на премьеру пьесы «За закрытыми дверями».
В июне Ребате и Кусто вступают в Милицию — карательное формирование Виши, превратившее войну с немцами в гражданскую войну между французами.
28 июля выходит последний текст Ребате в JSP — «Верность [национал-социализму. — М. Т.]», а 16 августа — последний номер JSP. Вечером того же дня редакция отбывает на немецких военных грузовиках в Германию. Она обоснуется в Зигмарингене, где несколько тысяч коллаборационистов играют во французское правительство в изгнании: эту трагикомедию Селин увековечил в книге «Из замка в замок». Экранную «экскурсию» по замку Зигмаринген можно совершить в фильме Марселя Офюльса «Горе и жалость» (Le chagrin et la pitié, 1969).
Может быть, Сартр ручкался с Виннеем, а в Милицию вступал Ребате?
Нет, Винней верен политической линии Ребате: залог обновления французского кино, как и общества, — расовая чистка. Его брошюра «Племена в кино и театре» (1941) — классика антисемитской публицистики.
Что бы мы ни говорили и ни делали в отношении французского кино, первым делом необходимо очистить его от евреев, ‹…› воскресить после еврейской смерти.
Но еще 2 июня 1934 года он провозгласил в AF: «Французское кино для французов».
«[Во французском кино] 80% евреев, 10% беспаспортных иммигрантов и 10% французов, которым дозволено работать за их марксистские и масонские взгляды. ‹…› [Следует] вышвырнуть из нашей страны несколько сот тысяч евреев, начав с тех, у кого нет вида на жительство, не натурализовавшихся евреев ‹…›, тех, чье вредное политическое и финансовое влияние наиболее очевидно; иными словами, [вышвырнуть] всех евреев из кино»
Если талант немецких евреев, выбравших Голливуд: Ланга, Премингера, Уайлдера — Ребате ценил, то осевших в Париже — ненавидел: «худшая накипь, ничтожнейшие аферисты, хапуги-паразиты, которыми брезгуют даже свои, но чего-то стоящие евреи».
Справедливости ради отметим: о делягах-евреях, профанирующих искусство и обрекающих французов на безработицу, в 1930-х писали Сименон, Л’Эрбье, Жироду, Бланшо. Антисемитизм — скорее классовый, чем расовый, — был в порядке вещей.
Чаемую Ребате расовую чистку кино не на словах, а на деле совершил Робер Бюрон, c 1940 по 1944 год — генеральный секретарь Организационного кинокомитета. Причем осуществил, не дожидаясь немецких циркуляров. Но Ребате за его слова приговорили к смерти, а Бюрон сделал министерскую карьеру в освобожденной Франции.
Конечно, во время оккупации, в отличие от 1930-х, слова могли убить. На страницах JSP появлялись прямые доносы на тайных евреев и неблагонадежных. В 1941 году Винней писал:
Я не настаиваю на исключительно досадном сходстве мсье [Шарля] Трене с некоторыми иудеоамериканскими комиками, ‹…› [но он] внес свой посильный вклад в иудаизацию французского кино.
Согласно известному анекдоту, кто в Германии еврей, а кто — нет, решал Геринг. Кто еврей во французском кино, а кто — нет, решал Винней.
Обличая пессимизм «поэтического реализма», подорвавший дух нации, он писал: «Карне и его евреи погрузили французское кино в распад фатализма и детерминизма». Но потом передумал.
«После просмотра «Вечерних посетителей» я будоражил банду критиков, которые ничего в них не поняли, призывами поддержать эту прекрасную поэму. Через два дня у «Максима» я примирился с Марселем Карне, которому часто досаждал за его популистскую эстетику, и мы чокнулись под аплодисменты гостей»
* * *
Трюффо все это, конечно, знал, но письму Ребате искренне обрадовался, поддержал переписку, гулял и обедал со старшим коллегой на прогулочном пароходике по Сене, советовал, какие нуары стоит посмотреть: «Нагой рассвет» (Эдгар Ульмер, 1955), «Причину для тревоги» (Тэй Гарнетт, 1951), «Дом из бамбука» (Сэмюэль Фуллер, 1955); Ребате наверстывал упущенное за годы тюрьмы. В августе-сентябре 1957-го Ребате посвятил Трюффо пять статей в Dimanche-matin — цикл «Юный Любитель и старый Критик».

Трюффо жаждал познакомить с Виннеем коллег по Cahiers. Экс-руководитель Союза студентов-коммунистов Пьер Каст и участник Сопротивления Жак Дониоль-Валькроз наотрез отказались. Это был не первый их конфликт с Трюффо. Первый спровоцировала его восхищенная статья о Саша Гитри, великом актере, драматурге и режиссере, воплотившем сам дух французского театра и галльского остроумия, авторе помпезного альбома «1429–1942. От Жанны д’Арк до Филиппа Петена», собеседнике высших нацистских бонз.
На почве чего сошлись Трюффо и Ребате? Чем «юный Любитель» напомнил «старому Критику» его самого в юности? Тем ли, что они оба требовали обновления французского кино, то есть смены финансовой и интеллектуальной элиты? Тем ли, что борьба Трюффо с «папиным кино» напомнила Ребате его борьбу с еврейскими «племенами»? Тем ли, что оба они исповедовали «политику авторов»?
Тем ли, что они оба любили Ренуара?
Даже по поводу «Марсельезы» (La Marseillaise, 1937), снятой «по рецептам Димитрова», Ребате писал в AF 11 февраля 1938 года:
Горячая простота, жизнь, наполняющая эти картины, рискуют затронуть самое сердце народной публики, услышавшей, что с ней говорят на ее собственном языке. Новизна фильма тогда будет еще более ослепительной.
Но узнав, что к бельгийской премьере выпущен буклет с использованием этих слов, уточнил 29 апреля:
Отныне ‹…› воспевая [Ренуара как] художника, я не премину в каждой строчке напоминать, что как гражданин он достоин концлагеря в настоящем французском государстве.
Трюффо боготворил Ренуара.
Трюффо дружил с Ребате.
Ребате сулил Ренуару концлагерь.
Ренуар предлагал Ребате вместе бежать в Америку.
Ренуар, пока Превер не пригрозил ему расправой, на всех углах называл «Набережную туманов» (Le quai des brumes, 1938) Карне «фашистским» фильмом.
Ребате в то же время считал Карне еврейской марионеткой.
Самую «упадническую» — в терминологии Ребате — роль художника-самоубийцы в «Набережной…» сыграл Робер Ле Виган.
Друга Селина, нациста Ле Вигана, бежавшего в Зигмаринген, за измену родине приговорят к десяти годам каторги: условно освобожденный, он убежит в Аргентину, где умрет в нищете.
Одно имя вытягивает за собой другое. Личные и идеологические взаимоотношения вызывают недоумение. Черно-белая картина мира, населенного фашистами и антифашистами, категорически не адекватна реальности.
* * *
Трюффо и Ребате связало большее, чем политика, — стилистическое родство.
Желание написать Трюффо возникло у Ребате, когда он прочитал его статью о «Бродячих собаках без ошейников» Деланнуа. Кода статьи:
«Если только ваш родственник или друг не работал на фильме, если только вы не надеетесь получить работу у Жана Оранша и Пьера Боста, если только вы не готовитесь подписать контракт с Franco-London Films, — я не вижу, что может помешать написать, что «Собаки…» раздвинули пределы представлений о ничтожности»
Характерно, что Трюффо, как и Винней в 1930-х, персонифицирует ненавистную ему тенденцию. Для Трюффо ее воплощают сценаристы Оранш и Бост, для Виннея — продюсеры Ришбе, Натан, Поммер.
Столь же агрессивна легендарная статья Трюффо «Об одной тенденции во французском кино» (1954):
«Зрителю нужно непрестанно повторять, что ему следует почаще отождествлять себя с героями фильмов, — и как было бы хорошо, если бы он последовал этому совету! Ведь в тот день, когда зритель поймет, что толстяк-рогоносец, чьим злоключениям требуется симпатизировать (самую малость) и над которым надо смеяться (тут уж вволю), — это не кузен и не сосед этажом ниже, как принято думать, а он сам; что семейство негодяев — это его семья; что осмеянная набожность — это его набожность, — в этот самый день, повторяю, зритель, возможно, и отвернется от кинематографа, создатели которого работают так грубо, что показывают жизнь этого самого зрителя, увиденную с пятого этажа Сен-Жермен-де-Пре»
Базен неслучайно не решался опубликовать эту статью в течение года. Это вообще не критика. Погромная, демагогическая публицистика. Разоблачение не просто диктатуры кланов, а заговора против Франции. Если угодно, это фашистский стиль.
С другой стороны, такой стиль шокирует только современного читателя. До 1950-х французская журналистика вообще была крайне агрессивна. Оскорбления, а то и призывы к убийству — да и рукоприкладство — были нормой ведения эстетической и идеологической дискуссии.
Но близость Трюффо и Ребате — не только стилистическая.
Трюффо как критик ассоциируется с Cahiers, но первую, скандальную славу ему принесли тексты в Arts. Главный редактор этого журнала с 1954 по 1959 год — Жак Лоран (1919–2000), будущий гонкуровский лауреат (1971) и академик (1986). Его причисляют к литературному направлению, с легкой руки Бернара Франка окрещенному в декабре 1952-го «гусарами» (Антуан Блонден, Мишель Деон, Роже Нимье), хотя это определение условно. «Правые анархисты», «гусары» отвергали экзистенциализм и ангажированную литературу (как Cahiers отвергал ангажированное кино), а позднее — «новый роман» и голлизм, а следовательно, и легитимировавшую его мифологию Сопротивления.
В юности Лоран был активистом AF. Работая в департаменте пропаганды Виши, он сблизился с Миттераном. В августе 1944-го посредничал между Петеном и партизанами и сам ушел в маки, что не уберегло его от недолгого ареста после Освобождения. После Arts он создаст неформальный орган ОАС L’esprit publique, а в 1964 году попадет под суд по обвинению в оскорблении де Голля.
Трюффо эпохи Arts изъясняется, как активист AF. Фильм Гитри «Если бы мне рассказали о Версале» (Si Versailles m’était conté, 1954) — гимн «величию Франции: христианское государство и государство чести, уважающее клир и аристократию, замковый камень иерархического общества». Переиздание «Истории кино» Мориса Бардеша и Робера Бразийака Трюффо комментирует так:
Политические идеи Бразийака — те же, что у Дриё ля Рошеля; идеи, за которые их распространителя приговаривают к смерти, по определению достойны уважения.
Эта фраза должна была особенно порадовать Ребате.
* * *
Третье издание «Истории кино» (первые два выпущены в 1935 и 1943 годах) Бразийак (1909–1945) готовил в камере смертников. Его расстреляли 6 февраля 1945 года в форте Монруж как редактора JSP в июне 1937-го — сентябре 1943-го (в 1940–1941 годах газета не выходила). Из редакции его вытеснили радикалы — такие, как Ребате, — потому что он выступал за равноправные, а не подчиненные отношения между немецким и французским фашизмом. И еще потому, что (как он скажет на суде) не мог больше лгать читателям о неминуемой победе Германии.

Бразийак и его деверь Бардеш — авторы не менее значительные, чем Ребате. Их «История кино» — первая в мире — не устарела и поныне. Они едва ли ни первыми в Европе написали об Одзу и Мидзогути; многое сделали, чтобы вернуть из забвения Мельеса, — Мельес, считая их чуть ли не главными начальниками мирового кино, писал им трогательные письма.
Бразийак, как и Ребате, — блестящий писатель: его преждевременные (словно предчувствовал гибель) мемуары «Наше «до войны»» (1941), написанные в немецком плену, обладают завораживающим свойством: два-три слова останавливают время и дарят бессмертие уходящей эпохе, уходящему Парижу.
Бразийак, как и Ребате, — истовый, кровожадный нацист. «Все французы требуют смерти тем [евреям. — М. Т.], кто столько раз погружал нас в траур» (6 сентября 1941 года). «Надо избавиться от евреев до последнего, не оставив даже младенцев» (25 сентября 1942 года).
И он же в 1942-м спас из гестапо мужа Колетт — еврея Мориса Гудеке.
«Я встречал на приемах определенное количество писателей, некоторые из которых испытали бы большое смущение, если бы я не умолчал из милосердия их имена»
Единственный из редакторов JSP, он отказался бежать в 1944-м: «Мы на протяжении четырех лет повторяли, что не должны эмигрировать, прятаться в Германии при приближении союзников». 17 августа — сходил на спектакль «За закрытыми дверями». Назавтра в Париже началось восстание, о дате которого не знали лишь немцы: Бразийак ушел в подполье. Газеты упоминали его в числе беглецов, поэтому его не искали, он позволял себе вылазки в город, разве что снимал очки для конспирации. В сентябре арестовали его мать и Бардеша. 14 сентября он сам явился в префектуру. Там дежурил его однокашник, который дал понять: тебе лучше уйти, тебя здесь не было. Но Бразийак поднял шум, во всеуслышание назвав себя, добился своего ареста и освобождения родственников. Суд над ним 19 января 1945 года занял всего шесть часов.
На суде Бразийак, защищаясь, впервые сформулировал концепцию, получившую, особенно в 1970-х, широчайшее распространение: коллаборационистами были все. «Я встречал на приемах в Немецком институте определенное количество людей, определенное количество писателей, некоторые из которых испытали бы большое смущение, если бы я не умолчал из милосердия их имена». Тем не менее, некоторые имена он все же назвал: Галлимар, Жорж Дюамель, Жан Жироду.
Уже после казни Бразийака, в «Письме к Франсуа Мориаку» (1947) его тезисы развил Бардеш, напомнив, что сам Мориак подписывал книги Геллеру. Аполитичного Бардеша (1907–1998) расстрел Бразийака бросил в крайне правый лагерь. По словам писателя Патрика Бессона, «стать коллаборационистом после Освобождения — немыслимый антиконформизм». Постоянно дописывая «Историю кино», Бардеш одновременно публиковал стоившие ему новых арестов памфлеты «Нюрнберг, или Земля обетованная» (1948) и «Нюрнберг 2, или Фальшивомонетчики» (1950), где первым усомнился в реальности газовых камер. Стоял в 1951-м — вместе с сэром Освальдом Мосли и эсэсовцем Рене Бине — у колыбели неофашистского Европейского социального движения.
Книгу «Что такое фашизм?» (1961) он начал так: «Я — фашистский писатель».
* * *
Де Голля просили помиловать Бразийака. Петицию в его защиту составил не кто иной, как личный секретарь генерала Клод Мориак, сын знаменитого писателя и сам писатель, по убеждениям — левый голлист. Первая редакция гласила:
«Мы никоим образом не отрицаем ответственность интеллектуалов, которая, в чем мы отдаем себе отчет, тем более велика, чем они талантливее. Мы полностью берем на себя ответственность [за собственные поступки]. Мы просто полагаем, представляя себе этого человека, нашего врага, привязанным к расстрельному столбу, человека, в котором мы с внезапным изумлением узнали своего брата, что неправому делу не нужны мученики и что прощение может быть порой самым решительным и одновременно самым мудрым наказанием»
Однако защитники Бразийака сочли такую аргументацию слишком сложной для начальственных ушей; они ограничились просьбой о помиловании в память отца приговоренного, павшего в 1914-м за родину в звании лейтенанта. Петицию подписали 56 человек, включая Ануя, Валери, Клоделя, Франсуа Мориака, Кокто, Копо, Колетт, Оннегера, Дюллена, Барро, Дерена, Вламинка, близкого к компартии карикатуриста Жана Эффеля, писателя-подпольщика Жана Полана и даже — Альбера Камю.
Ставить ли подпись, Камю размышлял два дня. В частном письме к инициатору петиции Марселю Эме он уточнил свою позицию. Бразийака как писателя Камю считает ничтожеством, как человека — презирает. Он не может забыть друзей, убитых теми, кого вдохновлял Бразийак, помнит, что тот не заступился за расстрелянных в 1942-м коммунистов — «рыжего философа» Жоржа Политцера и писателя Жака Декура. Но отвращение Камю к смертной казни сильнее всех прочих чувств.
Де Голль отказал Мориаку-старшему, принесшему ему петицию. То ли на том основании, что Бразийак морально ответствен за убийство милиционерами экс-министра МВД Жоржа Манделя 7 июля 1944 года в лесу Фонтенбло. То ли потому, что генерал обещал голову Бразийака коммунистам.
Деятелям культуры не удалось его спасти, но они взяли реванш — спасли Ребате.
За него вступились те же Эме, Мориак, Полан. А еще: Беккер и сценарист «Великой иллюзии» Шарль Спаак, выступившие на суде в его защиту, Клер, Ромэн, Жид, Мартен Дю Гар, Жансон, Бернанос и даже голлистские пропагандисты Пьер Бурдан и Жан Оберле.
И — вновь — Камю. 5 декабря 1946 года он писал министру юстиции:
«[Ребате и Кусто] каждое утро ждут смерти, и у меня довольно воображения, чтобы понять: теперь, в тоске и муках совести, они платят за свои преступления самую высшую цену, какую способен заплатить человек. ‹…› Я знаю, ‹…› что было бы несправедливо казнить Бразийака и оставить жизнь Ребате, но не меньшая несправедливость заключается в том, чтобы сохранить жизнь политикам, покарав Ребате»
По той же причине Кокто счел казнь «нелепого и зловредного» Бразийака вопиющей несправедливостью: «хватит приговаривать к смерти писателей и оставлять в покое тех, кто поставлял оружие немецкой армии».
* * *
Контекст. Всегда важен контекст.
Репрессии против интеллектуалов — часть чисток коллаборационистов, которые во Франции возвышенно именуют «очищением». В 1944–1945 годах они носили как судебный, так и «дикий», стихийный характер. Как на любой гражданской войне, они сопровождались всевозможными зверствами, а обвинения в предательстве часто прикрывали сведение счетов.

По официальным данным, было казнено 10–11 тысяч человек, по данным историка Робера Арона — 30–40 тысяч. Правые авторы поднимают цифру до 100 тысяч убитых.
Из деятелей кино расстреляли Бразийака и (29 марта 1949 года) Жана Мами, снявшего под псевдонимом Поль Рише антимасонский фильм «Оккультные силы» (Forces occultes, 1943). Сценарист фильма Жан Марк-Ривьер (1903–2000), заочно приговоренный к расстрелу, бежал в Испанию. Продюсеры Робер Мюзар и Анри Клерк получили соответственно три года тюрьмы и пожизненную каторгу.
В тюрьме оказались будущие сценаристы, отцы французского нуара Огюст Ле Бретон и Альбер Симонен, актеры первого ряда Арлетти, Антуан Бальпетр, Жослин Гаэль, Саша Гитри, Альфред Корто, Алис Косеа, Жинетт Леклерк, Шарлотт Лизе, Мари Марке, Альбер Прежан, Ивонн Прентан, Вивьен Романс, Тино Росси, Пьер Френе, Морис Шевалье. Роже Дюшен, звезда «Тюрьмы без решеток» (Prison sans barreaux, 1938) Леонида Моги, после тюрьмы подался в налетчики: на мгновение его вернет в профессию Мельвиль, подарив главную роль в «Бобе-игроке« (Bob le flambeur, 1955). Его партнерша по фильму Коринн Люшер ответила за отца, журналиста Жана Люшера, руководившего всей прессой оккупированной Франции. Отца расстреляли, а дочь, последовавшая за ним в Зигмаринген, после тюрьмы умерла от туберкулеза в 1950 году, в 29-летнем возрасте. Кстати, секретаршей у Люшера работала юная Симона Синьоре. Он прекрасно знал, что ее настоящая фамилия — Каминкер, но, приезжая в офис, обнимал за плечи и утешал: «Все будет хорошо. Во всяком случае, здесь ты в безопасности».
Положа руку на сердце, судить можно было всех, кто работал в кино во время оккупации.
Дита Парло, звезда «Аталанты» (L’atalante, 1934) Жана Виго, попала во французскую тюрьму, едва выйдя из немецкого лагеря: после освобождения она сыграла лишь в двух фильмах. Мирей Бален, звезда «Пепе Ле Моко» (Pépé le Moko, 1936) Дювивье, пыталась бежать в Италию с любовником, немецким офицером. Партизаны схватили их: его больше никто не видел, ее избивали и насиловали. На экран она уже не вернулась.
Комиссия по чистке кино рассмотрела дела примерно 250 человек, многие из которых подверглись запрету на профессию: наиболее известен случай Клузо, чей шедевр «Ворон» (Le corbeau, 1943) стоил ему трехлетнего запрета. Но санкции были наложены, скажем, и на Трене, которого Ребате уличал в еврействе. Кому-то, как Марселю Карне, вынесли порицание. Кого-то, как Жана Кокто, полностью оправдали, хотя его флирт с оккупантами происходил на глазах у всей Франции.

Положа руку на сердце, судить можно было всех, кто работал в кино во время оккупации. Начиная, скажем, с братьев Люмьер, чьи грехи были гораздо весомее, чем связь Арлетти с немецким офицером или Леклерк — с Пьером «Безумным Пьеро» Лутрелем, уголовником-гестаповцем. Огюст Люмьер (1862–1954) входил в патронажный комитет Легиона французских добровольцев против большевизма, впоследствии интегрированного в войска СС. Луи (1864–1948), поклонник Муссолини, состоял в Национальном совете Виши. Оба были награждены вишистским орденом «Франсиск». И заканчивая 24-летним Мишелем Одьяром, будущим виртуозом диалогов, успевшим в 1944 году опубликовать пронацистские статьи в студенческой газете.
Под призывом к чисткам среди писателей, опубликованном 9 сентября 1944 года в Lettres Françaises, стояли среди прочих подписи Боста, Муссинака, Садуля — оппонентов и конкурентов Бразийака и Ребате.
В чем заключалась несправедливость этих, безусловно выборочных, основанных на двойных стандартах, репрессий, наиболее отчетливо сформулировал писатель и будущий академик (1963) Полан в серии текстов, увенчанных знаменитым «Письмом директорам Сопротивления» (1952).
Преступных убеждений не существует, преступно наказывать за ошибки, глупость или трусость.
Его репутация вне подозрений, как бы ни клеймили его «фашистом» в конце 1940-х сталинисты. Полан входил в первую группу Сопротивления, созданную в парижском Музее человека. После провала группы в мае 1941-го он оказался в тюрьме Санте, но через несколько дней вышел на свободу. За спасение он горячо благодарил своего друга Дриё.
Да, того самого Дриё.
Правда, во второй раз от гестапо Полану пришлось спасаться самому, чуть ли не убегая по крышам.
Полан писал, что испытывает не гордость за Сопротивление, а стыд за его моральное падение: герои превратились в палачей и доносчиков. Чистки — это презрение к Праву и Справедливости. Литераторов казнят по обвинению в измене родине, но судят по довоенным законам той самой родины, которая официально провозгласила политику коллаборационизма.
Но это не главное. Литераторов судят за их искренние убеждения, которые они открыто декларировали в 1930-х. Причем эти убеждения, о чем напоминал Полан, вполне отвечали духу самой прогрессивной французской культуры. Антипатриотизм, презрение к идее родины, пораженчество и готовность стать на сторону врага — это позиция Рембо в 1870-м, Роллана в 1914-м, Элюара и Арагона на рубеже 1920-х — 1930-х. Бразийак внимал политическим советам Элюара, Дриё поклонялся Арагону. Теперь же, что Полан считал особенно отвратительным, Элюар и Арагон громче остальных коллег воспевали родину и патриотизм и требовали крови своих вчерашних поклонников.
Но преступных убеждений не существует, преступно наказывать за ошибки, глупость или трусость. Привилегия писателей — иметь право на ошибку, глупость и трусость, поскольку они делают их всеобщим достоянием. И именно потому, что их имена, их подписи под статьями у всех на слуху, они оказываются идеальными козлами отпущения. В то время как те, кто не на словах, а на деле помогал оккупантам, отделываются почти что легким испугом.

Работавшие на рейх промышленники почти не пострадали от «очищения». Строители Атлантического вала получили по четыре года тюрьмы, возмущался Ребате. Гротескный Жозеф Жоановичи, местечковый жестянщик, наваривший миллиарды на сделках с вермахтом и гестапо, лишь с четвертой, если не с шестой попытки был осужден на шесть лет тюрьмы, которые не отсидел полностью. Палачи Папон и Бувье сделали головокружительную карьеру после Освобождения. Судьи, военные, полицейские пострадали несравненно меньше, чем интеллектуалы.
Это одна из причин, по которым интеллектуалы «не могли молчать», когда оглашали приговоры Бразийаку и Ребате. Но только одна из. Полан (1884–1968), годившийся французским нацистам в отцы, строил их защиту на основе рациональных рассуждений, оставив за скобками иррациональный «фактор поколения».
* * *
Лобро родился в 1899-м, Ле Виган — в 1900-м, Люшер — в 1901-м, Жанте и Деноэль — в 1902-м, Ребате — в 1903-м, еще один из осужденных руководителей JSP, рисовальщик Ральф Супо — в 1904-м, Кусто — в 1906-м, Бардеш — в 1907-м, Бразийак — в 1909-м, Эльсен — в 1913-м.
Среди их ровесников, а часто — однокашников или друзей: погибший в лагере Деснос (р. 1900), Мальро (р. 1901), командовавший в Испании республиканской эскадрильей в те дни, когда Бразийак тоже находился в Испании, но по другую сторону фронта. Расстрелянные коммунисты Политцер (р. 1903) и Декур (р. 1910); павший на войне коммунист-диссидент Низан (р. 1905). Выступавшие в защиту жертв чисток Эме (р. 1902), Спаак (р. 1903), Беккер (р. 1906), Эффель (р. 1908), Ануй (р. 1910), Камю (р. 1913); восхищавшийся «Двумя штандартами», «великой книгой подонка» Этьембль (р. 1909).
Уже упоминавшиеся Авелин, Альтман и Бост (р. 1901), Сименон (р. 1903), Садуль (р. 1904), Сартр (р. 1905), Карне (р. 1906), Бланшо (р. 1907). Писатель Роже Вайан (р. 1907), эволюционировавший от крайне правых к крайне левым взглядам, философы Реймон Арон и Эмманюэль Мунье (р. 1905), Морис Мерло-Понти (р. 1908), Симона Вейль (р. 1909).
А еще — вот характерная в своей парадоксальности биография — Эмманюэль д’Астье де ла Вижери (1900). Денди-аристократ и поклонник сюрреалистов, антисемитизм которого даже его литературный наставник Дриё считал чрезмерным. Создатель в сентябре 1940 года одной из первых вооруженных организаций Сопротивления «Последняя колонна», затем — министр внутренних дел в правительстве де Голля (1944), левый голлист, близкий к коммунистам, лауреат Ленинской премии мира (1958).
Отношение к миру именно этого поколения было впервые определено как «антиконформизм».
Рожденные в эти годы принадлежат к первому поколению, осознавшему себя именно как поколение. Условно говоря, это младшие братья «потерянного поколения», поколением, собственно говоря, не являвшимся. Фронтовой опыт объединял насильственно, разрушая довоенную, уже шедшую своим чередом жизнь «потерянных». Они пережили катастрофу, крушение всех иллюзий и ценностей. Их младшие братья пришли в мир после катастрофы, им было нечего терять. Их детские воспоминания были военными воспоминаниями. Бразийак писал: «мы пришли <…> в жизнь, о которой думали, что она безумна», «мы знали, что наше счастье и наша молодость находятся в постоянной опасности».

Отношение к миру именно этого поколения было впервые определено как «антиконформизм». С миром, который допустил катастрофу мировой войны, было нельзя по-хорошему. Большевизм, как и фашизм, в 1920-х — варианты антиконформистского, революционного отношения к миру. Поэтому идеологические разночтения не мешали личной дружбе, а переход из одного лагеря в другой воспринимался не как измена, а как личный выбор в рамках одной антиконформистской философии. Ребате ностальгически вспоминал:
«Цивилизованные и либеральные времена, когда у одной стойки бара на Монпарнасе могли брататься футурист-муссолиниевец, венгерский поэт — еврей и троцкист, антильский негр-сепаратист, мексиканский террорист, красный каталонец и французский нацист, флиртовавший с сюрреализмом»
Дата смерти этой антиконформистской идиллии известна точно: 6 февраля 1934 года. В ту кровавую парижскую ночь на штурм парламента шли и левые, и правые, объединенные ненавистью и отвращением к коррумпированному обществу, в котором местечковый аферист Саша Ставиский, как выяснилось после его «самоубийства», содержал депутатов, редакторов, судей и прокуроров. В ту ночь казалось, что возможен единый фронт антиконформистского поколения; в ту же ночь эта иллюзия рухнула, и политические дороги поколения разошлись. Именно ту ночь Дриё, Бразийак и Ребате называют моментом своего окончательного превращения в радикальных фашистов.
Тем не менее память об общности судьбы сохранилась. Возможно, именно она порой позволяла нацистам и участникам Сопротивления в годы оккупации и чисток вести себя с необъяснимой с идеологической точки зрения солидарностью.
* * *
Ребате — не единственный нацист, приметивший Трюффо. Антуан де Баек и Серж Тубиана, впервые обнародовавшие в биографии Трюффо (2001) подробности его дружбы с Ребате, пишут, что в начале 1956 года ему прислал письмо из Испании заочно приговоренный к смерти критик Клод Эльсен: «Вы так напомнили мне того, кем я старался быть до потопа. Браво».
Это немного странно. Критик, литературовед, поэт, эссеист, романист и переводчик Эльсен (1913–1975) вряд ли писал Трюффо из Испании. Он был осужден за коллаборационизм в родной Бельгии, а во Франции нашел убежище. Собственно говоря, Гастон Дерик, на родине публиковавшийся в Cassandre, Nouveau journal, Le rouge et le noir и Les beaux-arts, стал Эльсеном именно во французском изгнании. Был известен как автор книги «Судьба кино» (1943) и совместного с Робером Пуле и драматургом и журналистом Габриелем Фижисом (Мил Занкин) манифеста за нейтралитет Бельгии (1939).
Найти для единомышленника добрые слова затруднились даже критики-нацисты.
По иронии судьбы Франция, беспощадная к своим литераторам, стала надежным убежищем для бельгийских нацистов: помимо Дерика-Эльсена, можно вспомнить директора оккупационного брюссельского радио Каретта, ставшего французским академиком Фелисьеном Марсо, приговоренных к смерти писателей Пуле, также кинокритика, друга Арто и ассистента Ганса, и Франсиса Сулье.
Кажется, у Эльсена проблем тоже не возникло. Он писал о кино в Écran de Paris, переводил Мейлера, Эмиса, Во, Чейза, Флеминга, одним из первых начал пропагандировать нуар и научную фантастику — это он перевел на французский роман Ричарда Мэтисона «Я — легенда» (1954). О «Двух штандартах» Ребате он, само собой, опубликовал восторженную статью.
Эффектно смотрятся поставленные рядом названия двух французских книг Эльсена: «Homo eroticus. Эскиз психологии эротизма» (1953) и «Я выбрал животных» (1970). Нет-нет, ничего дурного: вторая книга — экологический манифест, протест против охоты и опытов над животными.
* * *
Если речь идет все-таки о письме из Испании, то скорее можно предположить, что корреспондентом Трюффо был будущий персонаж его «Последнего метро», карикатурный критик-коллаборационист Даксья.
Именем Даксья была, в частности, подписана пьеса в 14 картинах «Пираты Парижа», посвященная делу Ставиского и косвенным образом узаконившая депортацию нацистами французских евреев. Премьера состоялась 10 марта 1943 года в театре De l’Ambigue: найти для единомышленника добрые слова затруднились даже критики-нацисты.

Под псевдонимом Даксья скрывался один из главных скандалистов богемного Парижа Ален Лобро (1899–1968). Ребате в «Мемуарах фашиста» отзывается о нем с брезгливостью: любитель затевать драки в кафе, блядун, сопровождаемый свитой таких же, как он, фриков. Ныне Лобро памятен, главным образом, инцидентом, легшим в основу эпизода фильма Трюффо. В рецензии на спектакль по пьесе Кокто «Пишущая машинка» (29 апреля 1941 года, театр Hébertot) Лобро прошелся по «извращенности» драматурга. Жан Марэ, сыгравший в спектакле две роли, с ужасом узнал, что незнакомец, которому он только что пожал руку в ресторане, и есть Лобро. Удостоверившись, что это именно «настоящий фюрер драматического искусства», Марэ плюнул ему в лицо, а затем подкараулил на улице и жестоко избил. Лобро не вызвал полицию: по версии Марэ, из-за того, что хозяин ресторана отключил телефон. Несмотря на стенания Кокто («Он гестаповец. Тебя расстреляют»), никаких последствий для актера инцидент не имел.
Лобро родился в Нумеа, столице французской тихоокеанской колонии Новая Каледония, и сейчас его справедливо вспоминают в связи с талантливыми, гуманистическими, антиколониальными текстами. Например, в связи со статьей о Всемирной выставке (1931), на которой цивилизованные аборигены-канаки были выставлены на обозрение как дикари-людоеды.
За ужином у «Максима» с немецкими офицерами Лобро яростно противился освобождению арестованного поэта: «Только расстрел!»
По словам Ребате, Лобро, в отличие от коллег по JSP, где он работал с 1936 года, «не смущали обломки никаких догм». В 1920-х он благополучно писал рецензии для газет всех направлений: правой Le Journal, левого и пацифистского L’Œvreu, радикально-социалистической Dépêche du Toulouse. Возможно, искренне он был предан лишь гастрономии: в 1931 году вышла его книга «Любитель кулинарии. Эссе о кулинарии, рассматриваемой как одно из изящных искусств и как сладострастие».
В «черные годы» Лобро заслужил репутацию убийцы, причем не метафорического, в отличие от Ребате или Бразийака.
Это он назвал в JSP актера-еврея Анри Бора неоарийцем, после чего тот провел несколько недель в тюрьме и, освобожденный в сентябре 1942-го, умер в апреле 1943-го. Лобро считается виновником гибели Робера Десноса. Якобы за ужином у «Максима» с немецкими офицерами Лобро яростно противился освобождению арестованного поэта: «Только расстрел!» Деснос умер в лагере, его не смог выручить даже друг и покровитель, влиятельный журналист-нацист Жорж Суарез.
Однако Юки, вдова поэта, высказывалась по поводу Лобро весьма осторожно. История об ужине в «Максиме» — слух, сплетня. Да даже если и не сплетня, то Юки была готова понять чувства Лобро: Деснос всему Парижу говорил, что Лобро умрет от его руки, что он ногами выбьет из критика потроха.
Отношения в художественной среде, как читатель мог убедиться не раз, отличались возвышенностью.
Суарез не сумел спасти Десноса. Юки не смогла, как ни старалась, спасти Суареза: 9 ноября 1944 года он стал первым из как минимум шести литераторов, расстрелянных в ходе чисток.
Зато Лобро, заочно приговоренный к смерти 5 мая 1947 года, успел добежать до испанской границы.
Даксья в «Последнем метро» — формула критика-нациста: это в той же степени Лобро, что и Ребате. Пожалуй, со стороны Трюффо было непорядочно по отношению к старшим друзьям представить их в столь гротескном свете.
В интервью по поводу «Последнего метро» Трюффо лишь однажды упомянул Ребате в безликом, политически корректном контексте.
«Еще хуже, чем оккупанты, были пронацисты, доводившие свое гитлеристское усердие до того, что становились антивишистами и антипетенистами. ‹…› Я бы не сказал, что нужно устраивать охоту на антисемитов в мирное время. Каждый должен иметь возможность выражать свои взгляды, даже неприятные, — такова игра идей. Но быть антисемитом в 1942-м было омерзительно. Брать на себя ответственность за чужую жизнь и смерть, причем в большей степени за смерть, чем за жизнь, — этого нельзя потерпеть. Я предпочитаю фразу, сказанную в конце войны одним итальянским денди: «Наконец-то мы снова сможем стать открытыми антисемитами!». Это наглые и циничные слова, но я предпочитаю их патологическому и истерическому поведению в духе: «Они уводят наших самых красивых женщин!». Это, как наваждение, было свойственно Ребате, например»
Вот и передал юный Любитель привет старому Критику.
Впрочем, в начале 1960-х Трюффо стремительно полевел (о чем подробно пишут де Баек и Тубиана), подписал «Манифест 121» против войны в Алжире вместе с заклятыми оппонентами из Positif и даже нашел у себя еврейские корни.
Было бы наивно объяснять его дружбу с Ребате тем, что он уже в середине 1950-х копил материал для своего будущего фильма о театральных кругах времен оккупации. Фильм, снятый четверть века спустя, — не оправдание. Однако именно так — как провиденциальную подготовку к съемкам «Лакомба Люсьена» (Lacombe Lucien, 1974) — объяснял свой юношеский круг опасных связей Луи Маль.
* * *
Слава пришла к Малю в мае 1956 года, когда фильм об океанских глубинах «Мир тишины» (Le monde du silence), снятый им в соавторстве с майором Жак-Ивом Кусто, победил в Каннах. Жак-Ив — родной брат Пьера-Антуана Кусто (1906–1958), осужденного вместе с Ребате.
«После двух трусов наконец-то крутой».
Судя по всему, официальная биография Кусто-подводника, тайного агента Сопротивления, несколько отличается от реальности. Но о его взглядах многое говорит история его избрания во Французскую академию. Друзья удивлялись, как Клод Леви-Стросс, еврей и антифашист, мог лоббировать кандидатуру «этого антисемита». Великий этнограф ответил: «Ну антисемит и ладно, зато он так много сделал для спасения мирового океана». Достойная подражания позиция.
Но майор — невинное дитя по сравнению с братом, которого друзья называли ПАК.
В юности ПАК слыл «самым левым среди крайне левых», но поездка в США, описанная им в книге «Еврейская Америка» (1942), радикально изменила его взгляды: отныне он был самым правым среди крайне правых. С сентября 1943 года ПАК редактировал JSP после ухода Бразийака. Не просто публиковался в журнале войск СС, но, вступив в Милицию, в отличие от Ребате, работавшего по ведомству пропаганды, участвовал в карательных операциях против партизан.
В дни суда над редакторами JSP драматург Арман Гатти, партизан, приговоренный оккупантами к смерти, радовался в Le Parisien libéré (21 ноября 1946 года) тому, что подошла очередь ПАК давать показания: «После двух трусов [Ребате, Жанте. — М. Т.] наконец-то [выступает] крутой». Еще один участник Сопротивления, писатель Жак Йонне отмечал: «Это был лояльный враг». «Юмор висельника», присущий Кусто, заставлял смеяться отнюдь не расположенный к веселью мстительный зал.
После освобождения ПАК писал для Rivarol и Lecture Française. Когда он умер, Monde констатировал: «Верный своему прошлому, своим идеям и своим друзьям, ПАК не растерял свой талант [критика] и полемиста». Да, он до конца верил, что Германия, «несмотря на все свои преступления, была последним шансом белого человека, в то время как демократия означала его конец».
Маль встречал Ребате и Пьера-Антуана у отца Кусто и не один вечер провел, слушая их.
«Я был заворожен, поскольку никогда не встречал настоящих фашистских интеллектуалов. Они вышли из тюрьмы как никогда твердыми в своих убеждениях, они интересовались мной потому, что я был молод, и потому, что я был для них публикой. Озлобленные, нетерпимые доктринеры, они говорили чудовищные вещи. Я пытался понять, как они дошли до таких рассуждений, и не мог»
Режиссерский интерес — само собой; однако Маль писал это в 1978-м, через двадцать лет после смерти ПАК.
У них была одна группа крови. В буквальном смысле: первая группа, резус отрицательный. Когда ПАК тяжело заболел, Маль отдал ему свою кровь, но не сумел спасти: 17 декабря 1958 года ПАК умер.
Трагически сложилось и сотрудничество Маля с «гусаром» Роже Нимье (1925–1962), в честь романа которого «Синий гусар» (1950) и назвали группу «новых правых» писателей. Он успел написать сценарий «Лифта на эшафот», но, едва приступив к экранизации романа Дриё «Блуждающий огонек» (1964), 28 сентября 1962 года погиб с подругой в ДТП.
Право слово, от призрака Дриё никуда не деться, когда заходит речь о «новой волне».
* * *
«Зимним вечером 1950 года в Le Celtic, киноклубе Латинского квартала на Рю-дез-Эколь, завсегдатаям показывают курьезный английский фильм, политическую фантазию времен войны, которая пыталась объяснить публике, во что выльется высадка и оккупация Англии немецкой армией. Пропагандистский фильм внезапно прерывается, свет в зале зажигается, и, как фантастическое видение, появляется офицер вермахта из плоти и крови при полном параде. Поприветствовав всех вскидыванием руки, он заявляет с ярко выраженным германским акцентом: «Шутка весьма дурного вкуса». Зал тут же погружается в темноту, показ возобновляется.
Так реконструирует де Баек забытый инцидент в спецвыпуске Cahiers, посвященном Клоду Шабролю.
Офицера изобразил Поль Жегофф (1922–1983), сценарист пятнадцати лучших фильмов Шаброля, кумир Годара, Риветта, Трюффо, Душе. Для вылазки в киноклуб он облачился в мундир, который уже использовал в 1946 году на «Балу свободы» в кабаре «Красная роза».
Жегофф намеревался тогда прийти на вечеринку, волоча за собой на веревке человека в полосатой лагерной робе с желтой звездой. Шутка не была доведена до конца, поскольку никто не согласился на роль еврея. Одинокого Жегоффа в немецкой форме вышвырнули на улицу.
Смертельно опасная в 1946 году эскапада. Прошедший огонь, воду и медные трубы Мельвиль считал подвигом то, что ему удалось снять проход по Парижу одетого в немецкую форму Говарда Вернона для «Молчания моря» (Le silence de la mer, 1947). «Мы ежесекундно рисковали, что нам набьют морду», «я привозил Вернона в своем автомобиле, выпускал на улицу и быстро снимал». Но это Мельвиль, это фильм по манифесту Сопротивления, написанному национальным героем Веркором. Жегофф же вряд ли успел бы объяснить парижанам, что, по формуле де Баека, его отличает абсолютная «суверенность», а «послевоенные идеи, такие, как гуманизм, социализм, окрашенные мистикой воскрешения», «оставляют безразличным».
В «Примечании к прошлому» (1983), лучшей советской книге о французском военном кино, Галина Долматовская трактовала экранное отражение эстетики жизни Жегоффа примирительно.
«В работах художников «новой волны» мы по крупицам найдем лишь отзвук тревоги за будущее, которое сегодня проверяется прошлым. Например, в фильме Шаброля «Кузены» один из героев, Поль, в момент очередной попойки, переодевшись в форму гитлеровского офицера, читает по-немецки стихи, а затем прорезает глаза спящего товарища лучиком карманного фонаря и кричит: «Гестапо!», напоминая о фашистской угрозе»
Если бы так…




