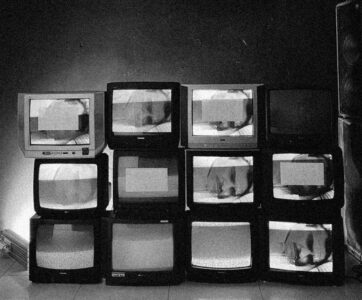Не вчера, не сегодня, не завтра
Праздников два: один весною, немедленно после таяний снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных.
— М.Е. Салтыков-Щедрин.
Славное дело летописцев! Ядовитый и странноватый Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Историей одного города» вызвал у современников не столько понимание, сколько недоумение и разнотолки.
Сергей Овчаров создал Кинолетопись. Вслед за Салтыковым-Щедриным, пародирующим летописный стиль, извлекающим на свет божий четырех ее создателей-архивариусов, Овчаров, не храня верности форме изложения, стремится выявить несущие конструкции. Философия истории сводится к этике, факты выпадают из причинно-следственного контекста. Мир в таком сознании дробный, фрагментарный, события листаются, как страницы изъеденного мышами фолианта, представленного в первых кадрах фильма. Изложение — эмпирическое, наивное, простое.
Время летописных веков особое. В нем «нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется». Оно позволяет наблюдать историю не как процесс, а как огромное статическое поле: замечательные и важные события прошлого там обязательно связаны (по логике старинного повествователя) с деяниями князей, а по-салтыковски — начальников.
Пока человечество осваивало исторический простор, накопилось множество фрагментов, устойчивых стереотипов, которые в нашем сознании неизменно соотносятся с определенным лицом и эпохой. Очень часто, разнясь по форме, эти знаки времени бывают идентичны по сути. Их ассоциативная связанность позволяет повествователю свободно тасовать их. Этот прием только с виду напоминает изготовление карикатур и анекдотов. Детали, легко узнаваемые биографические подробности, жесты, словечки так плотно наплывают друг на друга, что и они в свой черед создают поле образа с размытыми границами.
Как и «История» Салтыкова-Щедрина, Летопись, восстановленная на Ленфильме Овчаровым в 1989 году, переполнена намеками, аллюзиями, привычными характеристиками то из царствования Александра I, то — Павла I. В одном градоначальнике соединяются и обобщаются черты деятелей разных эпох. Сгущение социально-психологических реалий так велико, что мы начинаем чувствовать: дело не в каких-то намеках, дело в изначальном особом подходе к тому, что именуется властью и представлено фигурами градоначальников.
…От кадра к кадру Фердыщенко все более и более походит на Иосифа Сталина (китель, трубка, усы). Появляется пенсне, подбриваются усы — Лаврентий Берия. Из Берии (пенсне долой, усы сбриты, отложной ворот украинской рубахи) прорастает Никита Хрущев. Но только-только мы узнали его, как «вздрогнула на лице у Фердыщенки какая-то административная жилка» и это уже градоначальник Бородавкин (Л. Куравлев), который уж точь-в-точь — Никита Сергеевич! Только разводит не кукурузу, а горчицу. Кто же больше соответствует — один или другой, тот или этот?! И тот, и этот…

Фотография Л. Загера
Как во сне, образ наплывает на образ, ассоциации цепляются за ассоциации, привычное странно трансформируется, подвергается метаморфозам. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Феномен единоличной власти неизменно предстает в качестве диктатуры и деспотии — независимо от того, какие надежды возлагаются на правителя и какие толпы готовы устремиться за ним к сияющим вершинам. А если в порыве реформаторства власть и не берется за винтовку или топор, то «самоубийственно» обращается за советом к тем структурам общества, которые по своей природе противостоят этой власти или просто пребывают в других измерениях. Что «братики-сударики» — будущие панки, что Парамоша и Аксиньюшка. Ни юродивые, ни бунтари не могут решить проблем правителя, поскольку они асоциальны по сути.
Временные проляпсусы и несовпадения обнажают весьма условную хронологию фильма. Строительство Вавилонской башни ведет СМУ-1, а Грустилов и пленительная Пфейферша беседуют в будуаре, обставленном как «один из тех очаровательных приютов, которые со времен Микаладзе устраивались для градоначальников», — хотя весь фрагмент о Грустилове соотнесен по реалиям с восьмидесятыми годами, но не XIX, а нынешнего века. Анахронизмы усиливают ироничность…
Невелико и пространство действия. Арена истории сжалась в фильме до размеров двора губернаторского дома и близлежащего выгона. Двор, где энергично сражаются за престол шесть градоначальниц, являет собой строительную площадку первых пятилеток. По выгону совершает свои путешествия Фердыщенко. В доме все так же переменчиво — то это зал театра, то место собраний, то коммунальная квартира (удивительно точно найденный образный эквивалент «сочетания идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливливания»). Страшный коридор коммуналки тридцатых годов — пространство безумное, пространство кошмарного сна.
Как в детской загадке: один вход — пять выходов. Думаешь, что вышел, а на самом деле вошел. Этот коридор кончается дверью в кабинет Фердыщенки, здесь же стоит унылая очередь «на прием», здесь же сидит охрана, здесь же разгуливают те, кто стучит в двери комнат по ночам и уводит людей прямо из постелей.
Сжатое пространство действия расширяется в повествовании реминисценциями самого разного рода. Закрепленные в нашем сознании стереотипы позволяют Овчарову «перевести» истлевшие страницы летописи в другой материал — вот стилистика киножурнала «Новости дня»! Вот легко узнаваемая стилистика фильмов Эйзенштейна, Медведкина, Норштейна, Климова! Удивительно — но эффект достоверности: как-то верится, что если снято давно, и пленка старая, и все едва видно, то уж это именно так и было, пусть лента вовсе не документальная, а художественная. Вот так рывками двигались, вот так страстно заламывали руки, бухались на колени, стрелялись, вытаращив глаза…
Овчаров знает подобную слабость в зрителе. И вот выцветшая акварель рукописных миниатюр, тусклая сангина, туманная сепия, старая поцарапанная пленка. Баснословные времена. Вот пошли старцы, звучит голос из фонографа — то ли голос Толстого, то ли чудом сохранившаяся фонограмма… чего? немого фильма? Все достоверно. Меняется эпоха — меняется пленка. Черно-белая в части о Фердыщенке и Органчике. Цвет во фрагменте с Грустиловым. Сине-зеленый мертвенный тон плохонькой копии видео-фильма в конце… Мерцающее, плохо сохранившееся начало, мерцающий, плохо переснятый конец. Композиционный круг замыкается.
Кстати, круг в этом фильме замыкается не раз, «Оно» опоясано единой фонограммой: лай собак, стоны, крики — своеобразная колючая проволока. Вернее, звуковой аналог той проволоки, которую любовно крепит Фердыщенко поверх забора, построенного в едином трудовом порыве всем миром на трудовом субботнике. Точный звуковой образ тюрьмы…
Весь фильм прочерчен от болота до болота, от топора до топора. С города на болоте начинаются исторические времена — болотиной, которую по ходу дела засыпают и песком, и камнями, и человеческими телами, исторические времена и заканчиваются. А от вора-новотора топор переходит в руки Угрюм-Бурчеева. (Вор-новотор спит до поры до времени на дереве, пока ходоки от народа не призовут его на помощь — сыскать князя.) Старинные крестьяне ищут порядка извне, себе они не доверяют, уповают на то, что князь «и солдатов наделает, и острог, какой следовает, выстроит!»
Триада власти сохраняется на протяжении всего фильма: страдающий и ждущий изобилия народ, градоначальник как персонифицированная власть, и князь на холме или голос в телефонной трубке — власть далё-окая.
Народ у Овчарова неизменно «безмолвствует» и по-христиански терпит бедствия. Но и властитель тоже «наслаждается» властью: Фердыщенко вечно в страхе, спит с пистолетом, жалко умирает; Брудастый (фигура брежневской формации) — механическая фигура, бродящая одинокими ночами мрачным коридором… вот он, коридор власти! … и наверх, на чердак, по железной лестнице и — в ящик-саркофаг.
«Если бы мы очистили остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция убиенных». Это — Салтыков-Щедрин. И это — Овчаров, в фильме которого слова сии звучат на фоне кладбища памятников, полуразрушенных теней памятников: гатчинский Павел I, Александр III работы Паоло Трубецкого, гипсовый Сталин работы неизвестного художника.
«Образы без лиц». Перефразируя известное толстовское «царь есть раб истории», Овчаров говорит: градоначальник есть раб мундира. И вот уже на экране голову подбирают к мундиру, как шляпу. Чья-то невидимая рука стаскивает за ушко один «качан» и подбрасывает другой. Главное — соответствие мундиру… Гоголь… «Нос»…
«Memento mori», обращенное к современной цивилизации, — вот что такое фильм Сергея Овчарова. Вавилонская башня, в которой просматриваются и спиральные конструкции Босха, и авангардные очертания здания Третьего Интернационала Татлина, и Дворца Советов, и графика комсомольских строек — башня-оборотень, башня-символ…
Медленно поднимается камера — все выше, и выше, и выше! Стальная птица — новое воплощение Вавилонской башни — оказывается сторожевой вышкой новой формации. Приближается ОНО (НЛО?) — грозный апокалипсис, грозящий уничтожить самое время. «Memento mori».