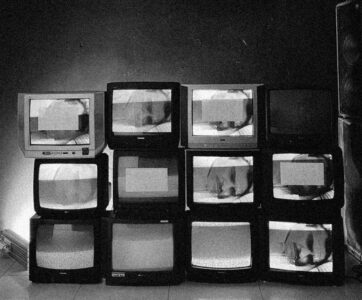Кинематограф и загробные походы

Грета Гарбо, 1925
Исследуя утопические свойства современного кино, мы рискуем упустить причастность кинематографа к самой древней человеческой утопии — утопии загробного царства. Хотя возможно, что именно здесь приоткрывается понимание самой сущности синема.
Кино как некрофилия
Кинопроекция с самого начала воссоздавала царство теней: на экран вызывались те, кого сейчас нет или уже нет, души или делегированные тела разговаривали, смеялись, шутили, страдали, любили — они жили загробной жизнью, изо всех сил маскируясь под жизнь посюстороннюю. Зрители следили за мертвецами затаив дыхание, как бы следуя некому глубинному чаянию, воле к бессмертию. Например, глубокое потрясение, связанное с фильмом Джармуша «Мертвец», отчасти объясняется гениальным удвоением приема: мертвый продолжает жить. Зритель не сразу догадывается, что герой Джонни Деппа мертв, но понимая это вдруг, столь же внезапно догадывается и о более страшной истине: все герои кинематографа — мертвецы. И более того, разве не из-за этого мы их трепетно любим?
Уже после случилось массово опознанное нашествие мертвецов, мертвецов «буквальных». В частности, с успехом прошел сериал «Мертвые, как я», где зритель мог следить за всеми перипетиями тонкой душевной жизни покойников, продолжая при этом пребывать в раздвоенном сознании. С одной стороны, преследует ощущение некой нелепости, переходящее в иронию и обратно, которое, впрочем, не препятствует просмотру сериала. С другой — внезапное понимание, что эти мертвые, сыгранные актерами, не так уж отличаются от других мертвых, тоже сыгранных актерами, но объявленных живыми. И те и другие суть тени. В одном случае они условно живые, в другом — условно мертвые. И странным образом двойная условность отсылает к некой безусловности, которая была изначально скрыта.
Тезис можно сформулировать в духе Владимира Ильича Ленина: из всех искусств самым некрофильским является кино. Тут, впрочем, тоже можно поразмышлять: а почему, например, не живопись? Сформулированный таким образом вопрос позволяет высказать несколько неожиданное, хотя и очевидное, утверждение: всякий рассказ — это рассказ о мертвых или об отсутствующих. Или о себе! Если рассказ ведется о тех, кто находится здесь, рядом, это сразу же вызывает ощущение повышенной странности: присутствующий внутренне (а то и внешне) сопротивляется, и сопротивление означает: я еще жив. По мнению Рикера, да и Гигерича, само прошлое возникает как специфический эффект рассказа, одна из функций нарратива состоит в том, чтобы поддерживать идею прошлого как времени. Но тут еще нет ничего специфически некрофильского…
И все же не зря просмотр фильма был когда-то назван не спектаклем, не представлением, а именно сеансом, по аналогии с психоаналитическим и, что важнее, спиритическим сеансом.
Вот зрители (в церковнославянском переводе Библии «зрителями» именуются свидетели чуда), наблюдающие сцену Воскресения, сидят в темноте и перед ними появляются движущиеся тени. Лучи Солнца отбрасывают тени на землю только в присутствии «тенеобладателей», а волшебный луч проектора перемещает эти тени на экран в отсутствие их обладателей. До этого собравшиеся в зале думали, что, если тени могут двигаться в отсутствие их носителей, значит, они именуются душами и дело происходит на том свете.
Теперь возникает догадка, что «тот свет», возможно, и есть свет волшебного фонаря, в остальном же природа «того света» довольно похожа на сложившиеся представления о нем. Хотя на том свете нет времени ни для людей, ни для вещей, и попавшие туда не стареют. Можно сказать, что впервые после христианства, и благодаря кинематографу, было введено новое таинство — собственно *таинство кино*, распадающееся на отдельные компактные составляющие. Например, очутившиеся на том свете попали туда потому, что их (уже) нет на этом свете, потому что они мертвые. В то же время актеры живы. Они живы и в заэкранном мире, хотя они здесь, в представшем царстве теней, на том свете. Где тогда мы?
Всему, понятно, есть научное объяснение, но перцептивная очевидность чуда очень медленно, с трудом усваивает научные объяснения. Сами эти объяснения носят характер гипноза: «Вот хлеб и вино, они символизируют плоть и кровь Христову. Если скажут: «Теперь понятно», необходимо будет вновь спросить: что именно теперь понятно? Ровно в таком же смысле понятно и другое объяснение: «Эти движущиеся фигуры репрезентируют живых людей». Что объяснило объяснение? Как ответить на вопрос: «А репрезентируют ли они мертвых?» Ведь сколько ни репрезентируй и ни символизируй, чудо оживления мертвых не отменить…
И вот еще поправка: до появления кино многие наивно полагали, что мы не можем видеть тех, кто на том свете, а вот они, возможно, наблюдают за нами. Но на том свете, что исходит от кинопроектора, все наоборот: мертвые вдруг становятся видимыми, но нас не видят.
О конце света
Итак, поразительное распространение реальности того света, ее проникновение в самые первые опыты визуальности можно интерпретировать как нашествие мертвецов. Любой из жрецов майя, тех, что составлял календарь, попав сюда к нам и исследовав вопрос, пришел бы к выводу, что его коллеги были абсолютно правы: мы уже на том свете. Трудность доказательства связана, впрочем, с относительностью систем отсчета. Если мы сидим в поезде и смотрим в окно на стоящий рядом поезд, и один из поездов начинает движение, мы сталкиваемся с тем, что невозможно с ходу определить, какой именно поезд тронулся. Среди первых кадров великого иллюзиона был мчащийся поезд, заставлявший вздрагивать и зажмуриваться тогдашних зрителей. С тех пор поезд продолжает мчаться и набирает ход; уже давно никто не вздрагивает и не зажмуривается, и все труднее с каждым перегоном ответить на вопрос: а на каком поезде мы? То есть опять-таки: на каком свете?
Для авторитетного ответа тут нужен независимый наблюдатель. Пусть это будет даже не жрец, а воин племени майя. Если он хотя бы бегло всмотрится в ситуацию со своей площадки, вывод его будет однозначным: это поезд мертвых, как Летучий Голландец, корабль призраков. И единственное, что его удивит (ибо остальное предсказуемо), — это то, что призраки на корабле, находящемся там, на «том свете», больше всего боятся конца света и непрестанно задаются вопросом: когда же он наступит? Эта позиция удивления приближает нас к истине, но все же не фиксирует ее. Дело в том, что корабль плывет или, если угодно, поезд мчится. То есть транспорт в потустороннее еще не прибыл в пункт назначения, но остановить его уже нельзя. Поскольку точка невозврата пройдена, с поезда можно только спрыгнуть на полном ходу, если, конечно, умеешь безошибочно распознавать мертвых и вообще отличать мертвое от живого. Тут открывается простор для политических спекуляций.
Неясно, как быть с любовью к тому свету, к тому, который теперь этот. В отсвете волшебного фонаря трудно принять экзистенциально выверенное решение, ведь есть и правильная некрофилия — любовь к отеческим гробам. Кто является носителем однозначной инфернальности, так это мертвые, замаскированные под живых и успешно внедренные в наши ряды. Нам известен такой способ маскировки, он называется гламур. Гламур успешно опробован на вещах, телах и даже на душах.
Удивительным образом точно в тему попадает песня Высоцкого из фильма Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли»:
Не так мы, парень, глупы,
Чтоб наряжать живых,
Мы обряжаем трупы
И кукол восковых
Из них, конечно, ни один
Нам не уступит свой уют
И с этих праздничных витрин
Они, конечно, не уйдут.
Тут мы, кажется, приближаемся к проблеме телопроизводства, санкционированного и осуществляемого кинематографом.
Первичная сцена кинематографа
Об этой проблеме мы вправе задуматься в психоаналитических терминах: многие обстоятельства подводят к этому, само слово «сеанс» вместо «спектакля», «представления» или «зрелища» — хотя что еще должно называться зрелищем, если не кино?
В обстановке сеанса, в полутьме, отрешившись от всех посторонних звуков, сосредоточившись на грезах, почти на сновидениях… Возникает мысль, что здесь разыгрывается первичная сцена и одновременно происходит реакция на нее, ее преобразование. Стоит разобраться в букете любопытных сходств и важных различий.
Сеанс cinema — это соблазненность, очарованность чем-то нахлынувшим, очарованность, которая не проходит. На нее подсаживаются, как на курс психоанализа. Производится ввод в состояние интерпассивности (Жижек), когда собственное воображение передается в доверительное управление. Но, как и положено первичной сцене, здесь же свершается нечто жуткое, дикое, отчего первым зрителям хотелось вскочить и бежать куда глаза глядят, даже если на них не мчался паровоз, а всего лишь там, на экране, зашевелилась скатерть от порыва ветра в полном безветрии зрительного зала.
Что же так ужасает и что очаровывает? Ответить на этот вопрос — значит разрешить загадку первичной сцены кинематографа. Попробуем.
Если тоталитарные режимы (скажем, СССР и нацистская Германия) практиковали прямой инструктивный гипноз (влияние которого, согласно Фрейду, неизбежно истребляется, как только сознание окончательно очнется), то Голливуд изначально выбирает другой путь. Эффект сеанса и погруженности, разумеется, используется, но для отождествляющего внедрения, в котором момент противодействия подвергается непрерывному отодвиганию и депонированию. Фильтр сладкого ужаса, разделяющий фракции, работает, казалось бы, безостановочно, но складированный ужас в качестве догадки, похоже, возвращается только сейчас.
Если верить утверждению антропологов, в каждой культуре глубокой репрессии подвергается либо секс, либо смерть (как эйдос избегания). Кинематограф как всемирное явление, несомненно, относится к культурам второго типа. С репрезентацией секса в кинематографе все в порядке, а вот насчет смерти, несмотря на нашествие мертвецов последнего времени, существует недоговоренность. Опыт «Кубанских казаков» (как, впрочем, и утопий Голливуда) свидетельствует, что кино как пространство есть своего рода рай: попасть в него значит выйти из всех программ смерти, включая старение, остаться живым, таким, какой ты есть. Великое желание оказаться там, на экране, выступает как осуществление воли к бессмертию, и понятно, что реализму и психологизму понадобилось немало усилий, чтобы потеснить эту волю. И все же манящим транспортом на тот свет кинематограф остается до сих пор. Такова одна из важнейших составляющих эффекта кинокамеры и мании экрана.
Облако-рай, если использовать название фильма Владимира Досталя, опустившееся на землю и окутавшее ее миражной пеленой, есть не что иное, как синема-парадиз или, говоря попросту, описанный в сказках «тот свет». Мы произведем теперь его дальнейшую рекогносцировку. Участники парадиза предстают как спасенные — но кто они суть? Тени? Души? Тела? Вкушают ли они райское блаженство вечной молодости? Или, может быть, им выпала мука вечной неприкаянности, о чем уже не поведать?
Любопытен критерий отбора спасшихся: он, в принципе, подтверждает, что пути Господни неисповедимы — и все же преимущества получают лучшие тела. Электронно-целлулоидное чистилище включает в себя кинохронику, телепередачи и разные малобюджетные любительские фильмы, не способные вывести участников на орбиту облака-рая, хотя это чистилище содержит в себе самый пестрый материал. А в блокбастерах, хитах, классических проектах мирового кино представлены избранные тела, и они спасены. Они не совсем тела, но и не души, а как бы эйдосы тел. Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер сохранены в качестве образцов-эталонов, не требующих понятийного определения, какого требовали эйдосы греков (так что воплощенная грация была прежде всего грацией, а воплощенная отвага — отвагой). Даже в качестве эйдосов они имеют имена собственные: скажем, не «воплощенное очарование», а именно Мишель Мерсье. Они избраны и канонизированы особым образом, через очищение, через стирание случайных черт. Не так, как канонизируется, например, наследие мысли, а путем мгновенной консервации времени, действительного утверждения одного и того же. Избрание и вознесение в синема-парадиз тоже оставляет период промежуточности: ты уже избран, твоя доля совершенна и не поддается дальнейшему усовершенствованию. Но кто же тогда еще здесь?
Так возникает первая трагическая нота, связанная не с жесткостью отбора в сонм избранных — тут, в принципе, действует обычная состязательность, — а именно с изъятием подлинников и старением дубликатов. Идея тени и двойника, так беспокоившая человека весь XIX век, реализовалась здесь по худшему сценарию. Продавший душу дьяволу обречен на адские муки, а продавшие тело в синема-парадиз — или, если угодно, те, кому удалось его туда устроить, — обречены оставаться его представителями на грешной земле, где они, в основном, могут только вредить своей возвышенной ипостаси. Смысл жизни ведь и без того проблематичен, а для тех, кого взяли, он и вовсе превращается в бессмыслицу, даже если тебе вдруг посчастливится стать губернатором Калифорнии.

Мэрилин Монро, 1946
Что делать живой и смертной Мэрилин, если она уже взята на целлулоидное небо? Сначала, конечно, осуществляется огромная, одноразовая (предельно краткосрочная) инъекция фимиама, но потом-то всякое промедление земной жизни вносит искажения в небесные черты. Положение безвыходное, если не считать выходом акт принудительного отождествления, к которому прибита живая богиня для устранения своей смертной ипостаси.
Можно ли сказать, что, например, с Софи Лорен не все так трагично? Не так, как с Мэрилин Монро и Сергеем Бодровым? Тут все зависит от точки зрения. Впрочем, тоска избранных смертных по изъятым телам («А я-то что здесь делаю?») есть частный момент, он не касается всеобщего содержания первичной сцены. Схема же ее такова. Вот истлевшие вещи и увядшие тела. Умершие люди и живые (бывшие живыми) существа. Однако они здесь, в полутьме, передо мной на экране и как бы в формате вечной жизни… Ясно: они на том свете. Но рано или поздно возникнет странный вопрос: а где тогда мы?
Ведь они тем не менее среди нас, их все больше, и еще нужно разобраться, кто кому подражает. Может, все-таки и мы уже на том свете, где-то в отстойнике, в предбаннике, просто мы не так все это себе представляли. Главные приметы сходятся: мы не беседуем с тенями, поскольку пока не допущены, но слушаем их беседы и поучения. И, конечно же, желаем оказаться среди них.
Стало быть, первичная сцена предстает не только и не столько иллюстрацией вечной жизни, сколько первым подтвержденным явлением мертвых среди живых — и преддверием великого нашествия мертвецов.
Его хочется определить как Первый загробный поход, и следует задуматься, какие именно территории захватили восставшие из гроба.
Первый загробный поход и его итоги
Нашествие мертвых оказалось удивительно хорошо замаскированным, в том числе и фильмами ужасов, то есть собственной фильмографией покойников. Зададим вновь знакомый вопрос, уже риторически, для разбега: пришел ли тот свет в гости к этому, вступил ли с ним во взаимодействие? Или мы были восхищены и незаметно перенесены на тот свет, а может, находимся в процессе переноса, в ладье Люмьеров, где кормчий и впередсмотрящий все время меняются местами?
Кинематограф оказался эсхатологическим транспортом, хотя его эсхатология вроде бы ничем не напоминает ни Армагеддон, ни Страшный Суд. Она действует по принципу медленной интоксикации, столь же незаметно, исподволь, как осуществляется и сам загробный поход. Что же мы, собственно, видим? Отслоившиеся тела, визуализирующие своеобразное присутствие персон. Эти тела не зависят от того, живы или мертвы те тела, от которых они отслоились. Хотя, пожалуй, некое нелинейное отношение все же существует: сначала восхищенные радуются, изъятие тел компенсируется фимиамом, но затем существование стареющих первоисточников начинает дискредитировать спасенные, отслоившиеся тела. Если бы кинообразы получили возможность действовать не по сценарию, они первым делом расправились бы со своими прообразами. Пока же круг их действий за пределами киноистории ограничен, они способны соблазнять, способны (и даже очень) оказывать влияние на тела всех «контактеров», внушая им моду, экспрессию, стиль и некоторым образом даже чувство.
Способность вступать в контакт и транслировать влияние — вот характерная особенность новых мертвых. Прежние мертвые неохотно являлись по вызову и влияли косвенно через заведенные ими установления. Новые мертвые устанавливают свои порядки, не дожидаясь фактического отмирания первообразцов. Получается, что их ипостась в высшей степени пригодна для осуществления власти — неудивительно, что к ней прибегают политики и все так называемые медийные фигуры: таков, стало быть, один из предварительных итогов Первого загробного похода. Новые мертвые делегируют свою ипостась живым, и те уже не могут обойтись без нее в осуществлении своих социальных функций.
Это своего рода сложный товарообмен между тем и этим светом: сначала в синема-парадиз делегируются тела избранных мира сего, затем эти тела делегируют способы своего существования (ипостаси). Такова, например, провинция телевидения, где тени состоят у сильных мира сего на посылках. Но даже и в этом формате повседневного делегирования дело обстоит не так однозначно. Церемониальные мелькания в телеящике, конечно, будничны и не самодостаточны в отличие от настоящих кинопроектов (снаффов, по выражению Пелевина). Телекартинки рассылаются каждый или почти каждый день, тени-стервятники наподобие перехватчиков клюют телеаудиторию, какая им доступна, норовя клюнуть в темечко, но, по большей части, промахиваясь. Однако численность племени этих перехватчиков есть безусловный показатель могущества посылающих их. Эта свита, состоящая из собственных удвоений, но не только из них, и из прочей нечисти (или нечестии, как уместно было бы сказать в данном случае) — теперь именно они создают ореол звездного блеска. Присутствие в новостном телевидении есть тиражирование через миражирование. Обратимся вновь к первоисточнику миражирования по имени синема-парадиз. Здесь ипостаси никому не делегируются, а обитают у себя на том свете, являясь предметом зависти и подражания. В пределах ауры конкретного кинофильма потусветники виртуально бессмертны, за пределами же они оказывают воздействие на воображение и волю смертных. Это воздействие можно ближайшим образом расшифровать как зов, обольщающий и манящий: «Здесь, на том свете, прекрасно… Мы ждем вас здесь, попробуйте совершить усилие преображения, чтобы приблизиться к нам».
В противовес «зову бытия», воспетому Хайдеггером, это, конечно, зов небытия, но небытия как соблазна. Оказавшись здесь, на том свете, ты сможешь «являться». Причем для «явления» не нужно будет сомнительных спиритических сеансов с постоянной угрозой сбоя и нечитаемых помех: достаточно киносеанса. Соберитесь в полутьме во имя наше, и мы не замедлим явиться, а явившись, расскажем, что было и что будет. И что следует делать.
Помимо этого в содержание послания входит еще много интересного: например сведения о том, как возрастают благополучие и могущество мертвых, по крайней мере, великих избранных мертвецов. Безвозвратно утерянный трактат Парменида, носивший название «О неравенстве мертвых», наверняка обретет новый смысл в благой вести из синема-парадиза. И если живые в многовековой борьбе за равноправие добились определенных успехов, то неравенство мертвых, напротив, достигло уровня, неведомого даже во времена Хеопса. Обладатели фундаментальных гробниц-пирамид могли приравниваться к богам, и эта конвенция была, безусловно, действенной. Но причисление к лику живых им все-таки не светило, Нефертити могла только мечтать о статусе Мэрилин Монро или Греты Гарбо.

Ален Делон, 1965
Кстати, любопытно, что обретение скромных средств домашней визуальности нисколько не выравнивает беспрецедентного неравенства мертвых: интернет-ролики — это песочные куличики по сравнению с пирамидами снаффов.
Тем настоятельнее, зазывней зов, манящий с того света. В сущности, ему препятствуют две вещи: сопротивление посюсторонней телесности и фактор встроенного обновления.
Тело и примыкающие к нему атрибуты прекрасной соматизации могут быть слишком далеки и недоступны, а путь преобразования немногим легче аскезы христианских пустынников. Пожалуй, средневековые трактаты «О подражании Христу» меркнут перед горестным вопросом: «Где я, а где Ален Делон?»
Однако сегодняшняя революция в гламурной аскезе существенно ослабила действенность первого препятствия, зов мертвых вызвал новый расцвет гимнасических и мусических искусств. Состав их, разумеется, изменился и продолжает меняться — фитнес, ботокс, косметическая и пластическая хирургия. В целом сумму этих процедур можно охарактеризовать как ванны с мертвой водой; как будто облако-рай, окутывающее синема-парадиз, проливается дождями мертвой воды, имеющими то же предназначение, что и мертвая вода русских сказок: а именно приведение изувеченного или увечного тела в благообразный вид. Живой воды не предусмотрено, поэтому оживотворение заменяет простейшая анимация — так осуществляется обходной маневр Первого загробного похода.
Что касается фактора обновления, действенного множителя кинопроектов, то он, скорее, уберегает от неотвратимого проникновения в нас, зрителей, и, следовательно, может рассматриваться как своеобразный защитный бастион. Соблазн не успевает проникнуть глубоко, так как перебивается встречным или обгоняющим следующим соблазном: пока мертвые сражаются с мертвыми, живые получают передышку. Однако плотность миражного пространства тем самым возрастает. Не следует забывать, что междоусобная война (а какая еще бывает?) есть имманентное свойство живой жизни, и, если ее ведут между собой мертвые, мы действительно имеем дело с гибридизацией того и этого света.
Второй загробный поход?
Киносеансы отличаются от спиритических сеансов тем, что, во-первых, вызываются не духи умерших, а их особым образом проецированные тела, а во-вторых, тем, что вызванные по окончании сеанса не уходят (вернее, не совсем уходят), а остаются на страже, наготове. И они, конечно, наставляют на путь истинный. В этом новые мертвые преуспели куда больше, чем прежние мертвецы. Так было в Первом загробном походе, который завершился сооружением пирамид-снаффов. Там, на заоблачных высотах, а точнее в облаках серебристой пыли (облако-рай), жили звезды немого, черно-белого и, наконец, полноцветного и полнозвучного кинематографа, и люди приносили жертвы их светящимся, избавленным от старения телам. У Даниила Андреева в «Розе мира» нечто подобное называется затомисом: что ж, национальные затомисы суть виртуальные пирамиды национальных снаффов. Только этим новым персональным затомисом располагает не каждая цивилизация: Радж Капур со товарищи для Индии, обособленный советский кинопантеон, Ален Делон с Жераром Филиппом для солнечной Галлии и один на всех Голливуд с огромной зоной покрытия.
Эти вершины по-прежнему возвышаются, образуя первичную топографию синема-парадиза, — но они как бы в тумане. Дистанция сакрального возросла, но вспышки влияния, например ретроспективные волны, продолжают накатываться с собственной регулярностью. То есть окончательные итоги Первого загробного похода подводить рано, но второй уже начался. Свидетельством развернувшихся по всем фронтам боев стали теперь телесериалы, а главное отличие в том, что изменился режим вторжения.
Без какого-либо налета сакральности, без привлечения аскетических практик, не покидая домашних тапочек, обитатели мира сего впустили гостей с того света в свои дома, и участники похода, воины Того Света, вошли к нам теперь на правах близких. Важнейшим условием успешного вторжения стала трансформация медиасреды. Вроде бы затянувшиеся истории о детективах и сыщиках, об эсквайрах викторианской Англии и уж тем более о Ланнистерах и Старках не имеют никакого отношения к политической актуальности, к бегущей строке новостей, пронизывающей мир. Но, конечно, имеют, еще как имеют! Еще до появления сериалов отслоились музыкальные новости и новости спортивные, образовав самодостаточные замкнутые орбиты. Затем траектория бегущей строки новостей стала использоваться для транспортировки рекламы. Наконец и сама «житейская жизнь» оказалась подхваченной транспортером, который стал исправно снабжать новостями тех, кто был изначально невосприимчив к политическим наездам или обрел иммунитет ко всему традиционному содержимому бегущей строки. На них-то и набросились еще обитатели Санта-Барбары, научившиеся заходить по-свойски: по приглашению, но без церемоний, не заставляя себя долго упрашивать.
Вспомним, что киносеанс по сравнению со спиритическим сеансом стал ускоренным и упрощенным способом выйти на связь с духами. Но все же и он требовал определенного ритуала, чего-то похожего даже на молитву. Теперь же достаточно просто «постучать», то есть ткнуть пальцем кнопку. И они явятся и расскажут тебе, какие новости в клинике доктора Хауса, в доме у Гомера Симпсона или в Семи Королевствах, то есть как раз там, откуда ты уже привык получать новости и ждешь их.
Теперь входящие — это уже не те светящиеся тела, окруженные звездной пылью (неопознанные святые). Любопытно, что ни качество звука, ни качество визуальности не отличают новых пришельцев. Этот новый класс существ занимает как бы промежуточное положение между домашними животными и живыми близкими. В сущности, они очень удобные — отключаемые в отличие от настоящих, неотключаемых близких. То есть главный признак пришельцев том, что с ними меньше хлопот.
Читайте также
-
«От Калигари до Гитлера» — Мрачные предчувствия
-
Назад в будущее — Разговор с командой видеосалона
-
Достигнув моря, нелегко вернуться
-
Два дня хорошей жизни
-
«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова
-
«Большие личности дают тебе большую свободу» — Разговор с Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной